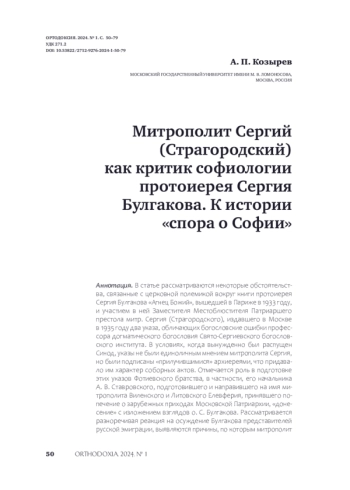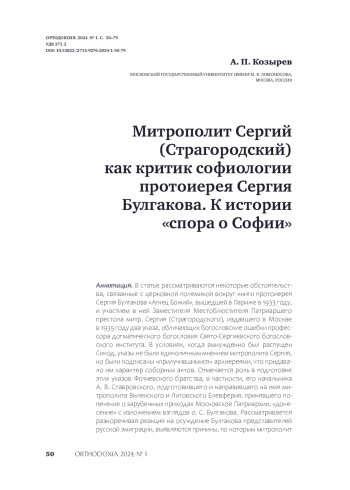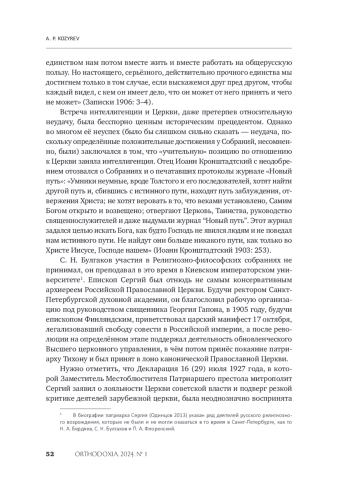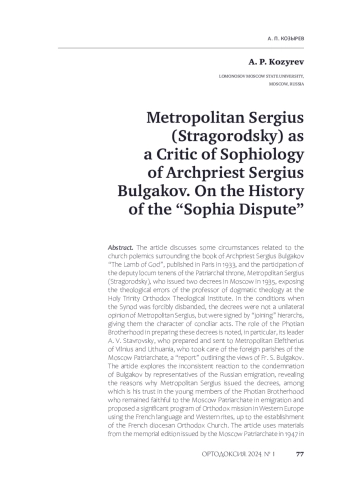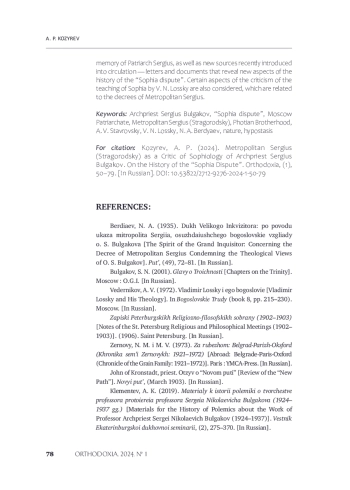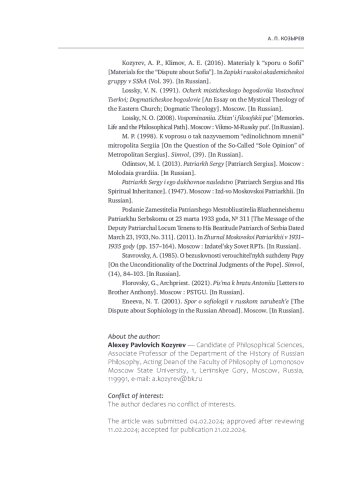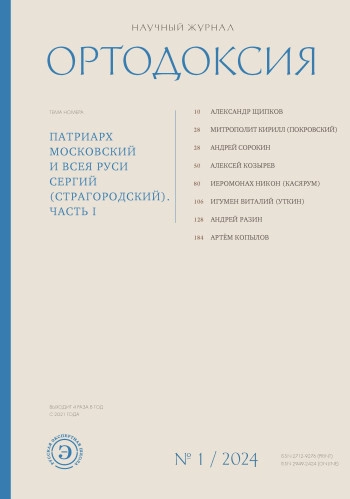В статье рассматриваются некоторые обстоятельства, связанные с церковной полемикой вокруг книги протоиерея Сергия Булгакова «Агнец Божий», вышедшей в Париже в 1933 году, и участием в ней Заместителя Местоблюстителя Патриаршего престола митр. Сергия (Страгородского), издавшего в Москве в 1935 году два указа, обличающих богословские ошибки профессора догматического богословия Свято-Сергиевского богословского института. В условиях, когда вынужденно был распущен Синод, указы не были единоличным мнением митрополита Сергия, но были подписаны «прилучившимися» архиереями, что придавало им характер соборных актов. Отмечается роль в подготовке этих указов Фотиевского братства, в частности, его начальника А. В. Ставровского, подготовившего и направившего на имя митрополита Виленского и Литовского Елевферия, принявшего попечение о зарубежных приходах Московской Патриархии, «донесение» с изложением взглядов о. С. Булгакова. Рассматривается разноречивая реакция на осуждение Булгакова представителей русской эмиграции, выявляются причины, по которым митрополит Сергий издал указы, среди которых выделяется его доверие к молодым членам Фотиевского братства, которые в эмиграции остались верными Московской Патриархии и предложили внушительную программу православной миссии в Западной Европе с использованием французского языка и западного обряда вплоть до создания Французской поместной православной церкви. В статье используются как материалы мемориального издания, выпущенного Московской Патриархией в 1947 году в память о патриархе Сергии, так и новые, недавно введённые в оборот источники — письма и документы, открывающие новые аспекты истории «спора о Софии». Рассматриваются также определённые аспекты критики учения о Софии со стороны В. Н. Лосского, которые связаны с указами митрополита Сергия.
Идентификаторы и классификаторы
Трудно сказать, когда произошло знакомство святителя Сергия, будущего патриарха, и профессора Сергея Николаевича Булгакова, в будущем священника и профессора догматического богословия. Епископ Сергий (Ямбургский) был председателем Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге (1901–1903), получив к тому времени епископский сан на посту ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Епископ Сергий хорошо знал русскую философскую и литературную среду, её настроения, в том числе и по отношению к традиционной православной церковности.
Список литературы
- Бердяев Н. А . Д ух Великого Инквизитора: по поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова // Путь. — 1935. — № 49. — С. 72–81.
- Булгаков С. Н. Главы о Троичности. — М. : О.Г.И., 2001.
- Ведерников А. В . В ладимир Лосский и его богословие // Богословские труды. — М., 1972. — Сб. 8. — С. 215–230. Записки Петербургских Религиозно-философских собраний (1902–1903). — СПб., 1906. — 531 с.
- Зёрновы Н. М. и М. В . (ред.) За рубежом: Белград-Париж-Оксфорд (Хроника семьи Зёрновых: 1921–1972). — Париж : YMCA -Press, 1973. — 561 с.
- Иоанн Кронштадтский, отец. Отзыв о «Новом пути» // Новый путь. — 1903. — Март.
- Клементьев А. К . Материалы к истории полемики о творчестве профессора протоиерея Сергея Николаевича Булгакова (1924–1937 гг.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — 2019. — № 2 (26). — С. 275–370.
- Козырев А. П., Климов А. Е . Материалы к «спору о С офии» // Записки русской академической группы в США. — 2016. — Т. 39.
- Лосский В. Н. О черк мистического богословия Восточной Церкви; Догматическое богословие. — М., 1991. — 287 с.
- Лосский Н. О . В оспоминания. Жизнь и философский путь. — М. : Викмо-М-Русский путь, 2008. — 398 с.
- М. П. К вопросу о так называемом «единоличном мнении» митрополита Сергия // Символ. — 1998. — № 39.
- Одинцов М. И . Патриарх Сергий (Серия «Жизнь замечательных людей»). — М. : Молодая гвардия, 2013. — 395 с.
- Патриарх Сергий и его духовное наследство. — М. : Изд-во Московской Патриархии, [1947]. — 415 с.
- Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшему Патриарху Сербскому от 23 марта 1933 года, № 311 // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. — М. : Издательский Совет РПЦ, 2011. — С. 157–164.
- Ставровский А. О безусловности вероучительных суждений Папы // Символ. — 1985. — № 14. — С. 84–103.
- Флоровский Г., прот. Письма к брату Антонию. — М. : ПСТГУ , 2021. — 216 с.
- Энеева Н. Т . С порософиологии в русском зарубежье. — М., 2001. — 125 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В настоящей статье рассматривается проблема осмысления деятельности патриарха Алексия I (Симанского) как преемника патриарха Сергия (Страгородского). В исторической литературе данный вопрос связан с тем, что патриархи были не только главами ключевых епархий Церкви в 1930-е годы, но и то, что именно в годы их руководства Русской Православной Церковью сложилась система отношений между Церковью и государством, которая оставалась неизменной на протяжении 1940–1980-х годов. Митрополит Сергий и митрополит Алексий были на исторической встрече 4 сентября 1943 года со Сталиным. Восстановление духовных школ и подготовка в них нового поколения духовенства, восстановление общения с Поместными Церквями и сохранение апостольского преемства — вот те ключевые задачи, которые стали решаться при патриархе Сергии и реализация которых была продолжена его преемником. Кроме того, именно при этих двух патриархах сложились особые взаимоотношения между Московской Патриархией и руководством страны. В 1943 году был создан Совет по делам Русской Православной Церкви (с 1965 года — Совет по делам религий) — особый орган, через который Церковь обращалась со своими нуждами к советскому правительству и через который Церкви передавались решения советского и партийного руководства. В статье использована статистическая информация о богослужебной и иной деятельности Церкви в обозначенный период, которая была лично собрана автором статьи в различных архивных документах. Преемником патриарха Алексия I стал патриарх Пимен (Извеков), который продолжил его линию во взаимоотношениях с государством.
В XX веке Русская Церковь пережила две внутренние революции. В ходе первой из них, 1917–1918 годов, было возрождено патриаршество. Однако революционные процессы породили мифы, частично существующие до сих пор. Один из них — об антихристовом характере советской власти. Этот миф сформирован комплексом идей о духовном коллективном Антихристе, порождён русским религиозным радикализмом XVIII–XX столетий. Радикальные идеи в России проникали через границы религиозных объединений, в том числе и в среду господствующей до революции Греко-Российской Церкви. Вопрос о возможности поминовения государственной власти и духовной оценке этой власти активно дебатировался в связи с выходом в старообрядческом поповстве «Окружного послания» в 60-е годы XIX века. Наиболее радикальную позицию в отношении власти занимали беспоповцы-бегуны. Идея духовного Антихриста предполагает, что окружающая действительность, включающая в себя государственность и социальность, уже захвачена коллективным, духовным Антихристом, понимаемым как апостасия, всеобщее отступление от Бога. Эти же идеи активно распространялись в антисоветском православном подполье, только теперь уже не в отношении русских царей, а в отношении советских вождей. Этот комплекс идей дожил до 70-х годов XX столетия как внутри ряда православных приходов, так и в сохранившихся бегунских скитах. Идея антихристова характера власти, близкая политическая возможность воцарения Антихриста характерны для творчества Д. С. Мережковсого и С. А. Нилуса. Проблема использования в качестве политического аргумента анафематствования патриархом Тихоном советской власти в 1918 году тесно связана с подобным мироощущением. В реальности анафема была не только отменена им в 1923 году после выхода из заключения, но и признана ошибочной, как и выступление против Брестского мира и противодействие изъятию церковных ценностей. Святейший Патриарх Тихон объявлял о невозможности возврата к прежнему государственному и социальному строю. Однако анафема 1918 года активно использовалась в качестве инструмента демонизации СССР в последний период его существования. Патриархом Тихоном указывалось, что Церковь возносит молитвы о советской власти. В связи со смертью Ленина им было направлено соболезнование правительству СССР. Особое место в структуре духовной оценки власти имеет факт гонений и новомученичества. Безусловно, масштабы таких гонений в советский период превосходят всё бывшее до этого. Тем не менее гонения и мученичество в России после 1917 года не являются чем-то никогда не бывшим ранее. В 1917 году старообрядцами было прославлено большое количество мучеников, пострадавших от царской власти. На факте духовной правды этого мученичества основывалось самоощущение старообрядчества на протяжении предреволюционной эпохи, точно так же как и самосознание современной Русской Православной Церкви основывается на духовном подвиге новомучеников и исповедников XX века. В течение нескольких столетий существовали монастырские тюрьмы. Некоторые из них, такие как Суздальская и Соловецкая, в больших масштабах, нежели в предшествующий период, возобновили свою деятельность в советские годы. Патриарх Тихон и затем митрополит Сергий (Страгородский) призывали не только к нормализации отношений с советской властью, соблюдению её законов и установлений, но и молитве за неё. Такая позиция соотносится с восходящим к святителю Иоанну Златоусту традиционным взглядом на власть как действие Промысла Божия. Оппоненты митрополита Сергия (Страгородского), в частности епископы, заключённые на Соловках, также не считали советскую власть носящей антихристов характер и выступали за нормализацию отношений с ней. Таким образом, в деятельности патриарха Тихона и будущего патриарха Сергия наследие идей русского религиозного радикализма было отвергнуто.
В настоящей статье рассматриваются экклезиологические взгляды патриарха Сергия (Страгородского) на основании анализа трёх программных статей, опубликованных в «Журнале Московской Патриархии» в 30–40-е годы XX века. Основные темы данных публикаций связаны с отношением к инославию, но их рассмотрение имеет и общее экклезиологическое значение: границы церкви, богословское изъяснение чиноприёмов, апостольское преемство, иерархический строй и единоначалие в Церкви. Патриарх Сергий формулирует понимание чиноприё- мов как объективной характеристики состояния инославных сообществ и свидетельства о возможности действия благодати вне границ Церкви. Практика употребления чинов приёма связывается им с церковной икономией, основанной на соборном суждении Церкви. Границы Церкви обозначаются участием в единой Евхаристии, что одновременно является свидетельством принадлежности к Церкви. Церковное единство и границы Церкви также обозначаются и её иерархическим строем, наследственной преемственностью апостольского служения, отступление от которого выводит за церковные пределы. Икономийное действие Церкви понимается им в сотериологическом ключе стремления к спасению многих, что связывает экклезиологию патриарха с изначальным сотериологическим посылом его богословия в контексте взаимоотношения догмата и истории, юридизма и живой церковной практики.
В 1901–1903 годах, являясь викарием Санкт-Петербургской епархии, епископом Ямбургским, Сергий (Страгородский) по благословению священноначалия был председателем Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге. Эти собрания стали значимой страницей в истории как церковно-государственных отношений, так и в целом религиозной мысли в России. Церковь пошла на собрания в надежде поиска общего языка с интеллигенцией. Однако инициаторы собраний стремились оказать такое влияние на Церковь, которое привело бы к коренной трансформации системы церковно-государственных и церковно-общественных отношений. В ходе собраний от Церкви фактически требовали разрыва с самодержавной государственной властью и опоры на новый внесословный слой интеллигенции. Последняя прямо провозглашалась самой передовой общественной силой. Предполагалось, что переориентация Церкви на поддержку интеллигенции должна привести к смене церковного идеала с «загробного» на «земной», то есть к благословению социально-общественных изменений социалистического характера. При этом сами организаторы собраний стремились к гораздо более глубоким преобразованиям. Они считали существующую Российскую Церковь «исторической», то есть отжившей, неполной, стремились обустроить свою новую церковь «Третьего Завета», ожидали нового откровения Святого Духа, придя в конце концов к идее «апокалипсической революции», призванной изменить весь мир. Особое место в «новом религиозном сознании» инициаторов собраний занимала идея «святой плоти», предполагавшая, с одной стороны, активное вовлечение светской культуры в церковность, а также оправдание обновлённой церковью культуры, с другой стороны — принципиально иной, нежели у Церкви, взгляд на семью с акцентом на святости не таинства брака, а самого плотского сожительства. Создание новой церкви предполагало и радикальное обновление догматики. Для обсуждения этой проблемы в ходе Религиозно-философских собраний был поставлен вопрос о возможности «догматического развития», то есть трансформации самой основы церковных догматов. Идеи, развивавшиеся на собраниях, можно характеризовать в качестве революционных. Епископ Сергий (Страгородский) перед лицом этих вызовов не только стойко отстаивал церковное политическое, социальное, нравственное и догматическое учение, но и проявлял большой такт и сдержанность по отношению к участникам собраний. Тем не менее преодолеть до конца круг сформировавшихся на собраниях религиозно-революционных идей ему не удалось. Фактически те же идеи в значительной степени были характерны для церковного обновленчества, с которым митрополиту Сергию (Страгородскому) пришлось бороться два десятилетия спустя. Опыт, полученный в ходе противостояния разрушительным идеям на Религиозно-философских собраниях, помог митрополиту Сергию в его борьбе с обновленцами.
В данной статье впервые делается попытка оценить богословскую значимость двух «Указов» митрополита Сергия (Страгородского), изданных в 1935 году против софиологии протоиерея Сергия Булгакова и подписанных членами Священного Синода Русской Православной Церкви. Отмечается, что митрополит Сергий проницательно и точно вскрывает основной нерв софиологии в смысле методологической проблемы смешения философского и богословского подходов. Собственный богословский подход митр. Сергия (Страгородского) основывается на различении богооткровенной идеи (догмата), вечно неизменной и самотождественной, и богословских попыток человеческой мысли постигнуть некие аспекты догмата, отнюдь не исчерпывающих таинственной полноты догмата и тем более не претендующих на расширение (прибавление) его смысловой структуры. Также в статье прослеживается изменение и обогащение позиции митрополита Сергия в отношении догмата искупления спустя более чем 35 лет после защиты его знаменитого магистерского сочинения «Православное учение о спасении». Ещё до выхода основного критического сочинения свт. Серафима (Соболева) в адрес митр. Сергия (Страгородского) в рассматриваемых «Указах» уже излагается понимание догмата искупления, включающее в себя как субъективный, так и объективный аспекты искупления. Как известно, за отсутствие последнего аспекта в раннем сочинении митр. Сергий подвергся критике. Взгляды, изложенные в полемике с софиологией, демонстрируют органический рост и углубление мысли митрополита Сергия, намечая при этом некие акценты, которые впоследствии будут основными направлениями православной сотериологии XX века.
В статье рассказывается о важной роли местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) в том, что Русская Православная Церковь с первых дней Великой Отечественной войны заняла ярко выраженную патриотическую позицию.
В воскресенье утром, сразу после литургии, узнав о нападении фашистской Германии, митрополит Сергий написал «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором чётко обозначил свою патриотическую позицию, призвал к защите Родины, напомнив о героических примерах русских святых и православных воинов. Это обращение по времени предшествовало выступлению заместителя председателя Совета народных комиссаров, народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова 22 июня и выступлению председателя Совета народных комиссаров И. В. Сталина 3 июля.
В статье рассказывается и о других делах митрополита (а затем Патриарха) Сергия, способствовавших победе над врагом. В годы войны местоблюститель огласил 23 патриотических послания, одним из которых было послание к духовенству и верующим на временно оккупированной территории, датированное 13 декабря 1942 года.
Благодаря патриотической позиции Русской Православной Церкви отношение к ней советских властей существенно изменилось. В статье подробно рассказывается об истории вопроса, о встрече И. В. Сталина 5 сентября 1943 года в Кремле с митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским), митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским) и митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем), о важных итогах этой встречи — легализации Церкви и восстановлении патриаршества.
В результате началось открытие ранее закрытых храмов, возвращение реформаторов в лоно канонической Церкви, восстановление епархий и т. д. В целом изменение конфессиональной политики Советского государства, самоотверженное служение Патриарха Сергия и Патриарха Алексия, архиереев и духовенства Русской Православной Церкви в годы войны сыграли важную роль в сплочении и мобилизации советского народа на защиту страны от врага.
Статья посвящена деяниям патриарха Сергия (Страгородского). Автор показывает, как историческое время и Божий Промысл создают личность выдающегося человека и церковного подвижника, и выделяет в деятельности патриарха Сергия ряд важнейших задач: восстановление института патриаршества, защиту Церкви от обновленческих расколов, восстановление её социальной и исторической роли. Существенное место в статье уделено вкладу патриарха Сергия в богословие, прежде всего в православную сотериологию. В статье показано, как деятельность двух патриархов, Тихона (Беллавина) и Сергия (Страгородского), способствовала выравниванию отношений Церкви с советским руководством и позволила нейтрализовать разрушительные последствия обновленческих соборов (1923 и 1925 годов). Обосновывается неизбежность и промыслительность решения патриарха Сергия о нормализации отношений Церкви с советским государством. Ключевыми соображениями в пользу такой нормализации названы сопротивление внутрицерковной реформации и мобилизация народа, страны и Церкви перед цивилизационным вызовом нацизма во время войны. Вместе с тем показано саморазоблачение некоторых эмигрантских приходов, которые, поддержав Гитлера, потеряли любую возможность быть альтернативой Русской Православной Церкви.
Уважаемый читатель!
Мы представляем вашему вниманию первый из двух номеров «Ортодоксии», посвящённых личности и жизненному подвигу патриарха Сергия (Страгородского) и приуроченных к 80 годовщине с даты смерти Предстоятеля.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- АНО РУССКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ШКОЛА
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125367, г Москва, р-н Покровское-Стрешнево, Сосновая аллея, д 6, кв 20
- Юр. адрес
- 125367, г Москва, р-н Покровское-Стрешнево, Сосновая аллея, д 6, кв 20
- ФИО
- Щипков Василий Александрович (ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______