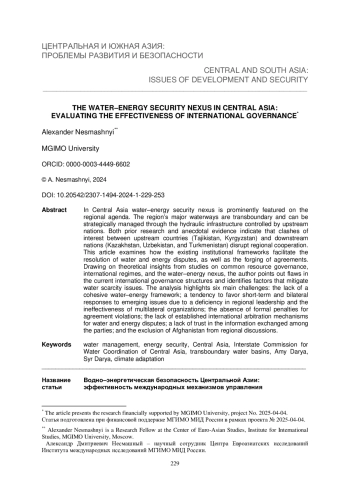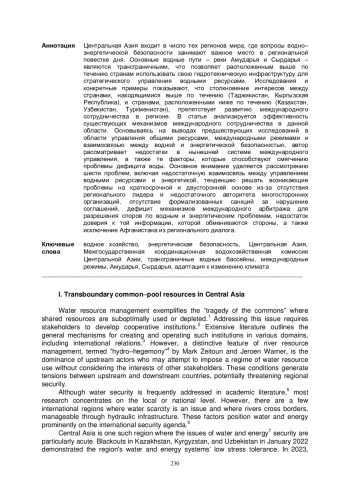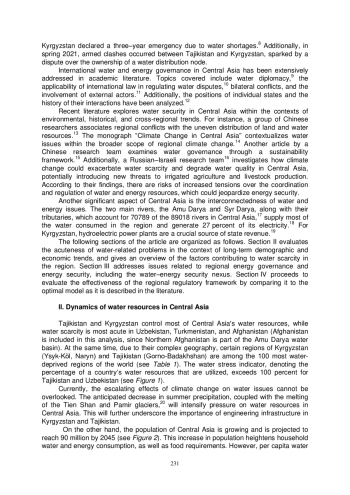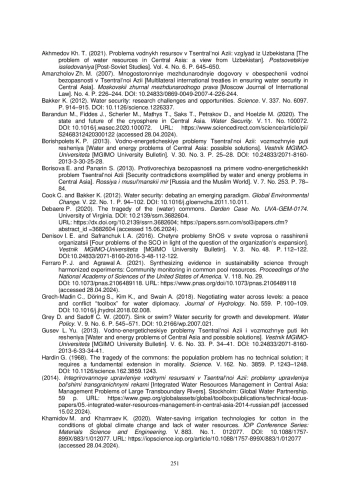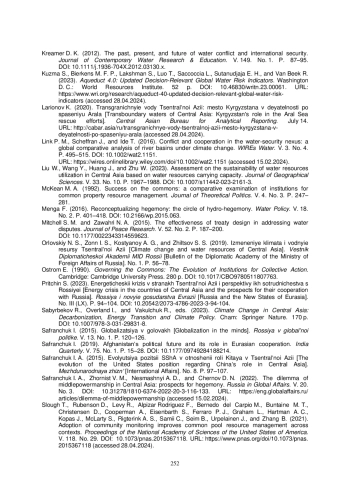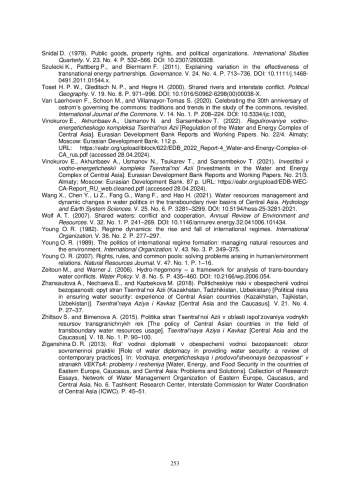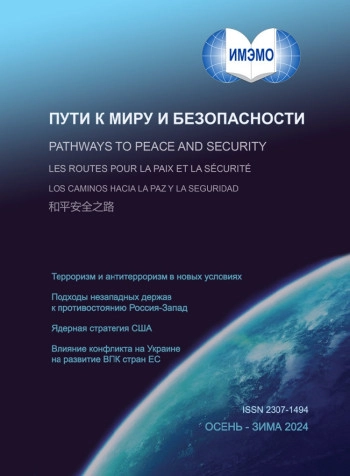Центральная Азия входит в число тех регионов мира, где вопросы водно энергетической безопасности занимают важное место в региональной повестке дня. Основные водные пути – реки Амударья и Сырдарья – являются трансграничными, что позволяет расположенным выше по течению странам использовать свою гидротехническую инфраструктуру для стратегического управления водными ресурсами. Исследования и конкретные примеры показывают, что столкновение интересов между странами, находящимися выше по течению (Таджикистан, Кыргызская Республика), и странами, расположенными ниже по течению (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), препятствует развитию международного сотрудничества в регионе. В статье анализируется эффективность существующих механизмов международного сотрудничества в данной области. Основываясь на выводах предшествующих исследований в области управления общими ресурсами, международными режимами и взаимосвязью между водной и энергетической безопасностью, автор рассматривает недостатки в нынешней системе международного управления, а также те факторы, которые способствуют смягчению проблемы дефицита воды. Основное внимание уделяется рассмотрению шести проблем, включая недостаточную взаимосвязь между управлением водными ресурсами и энергетикой, тенденцию решать возникающие проблемы на краткосрочной и двусторонней основе из-за отсутствия регионального лидера и недостаточного авторитета многосторонних организаций, отсутствие формализованных санкций за нарушение соглашений, дефицит механизмов международного арбитража для разрешения споров по водным и энергетическим проблемам, недостаток доверия к той информации, которой обмениваются стороны, а также исключение Афганистана из регионального диалога.
In Central Asia water-energy security nexus is prominently featured on the regional agenda. The region’s major waterways are transboundary and can be strategically managed through the hydraulic infrastructure controlled by upstream nations. Both prior research and anecdotal evidence indicate that clashes of interest between upstream countries (Tajikistan, Kyrgyzstan) and downstream nations (Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan) disrupt regional cooperation. This article examines how the existing institutional frameworks facilitate the resolution of water and energy disputes, as well as the forging of agreements. Drawing on theoretical insights from studies on common resource governance, international regimes, and the water-energy nexus, the author points out flaws in the current international governance structures and identifies factors that mitigate water scarcity issues. The analysis highlights six main challenges: the lack of a cohesive water-energy framework; a tendency to favor short-term and bilateral responses to emerging issues due to a deficiency in regional leadership and the ineffectiveness of multilateral organizations; the absence of formal penalties for agreement violations; the lack of established international arbitration mechanisms for water and energy disputes; a lack of trust in the information exchanged among the parties; and the exclusion of Afghanistan from regional discussions.
Идентификаторы и классификаторы
Управление водными ресурсами является примером “трагедии общего пользования”, когда общие ресурсы используются неоптимально или истощаются. Решение этой проблемы требует от заинтересованных сторон создания институтов сотрудничества.
Water resource management exemplifies the “tragedy of the commons” where shared resources are suboptimally used or depleted. Addressing this issue requires stakeholders to develop cooperative institutions.
Список литературы
1. Аманжолов Ж. М. Многосторонние международные договоры в обеспечении водной безопасности в Центральной Азии // Московский журнал международного права. 2007. № 4. С. 226-244. DOI: 10.24833/0869-0049-2007-4-226-244 EDN: IISUPP
2. Ахмедов Х. Т. Проблема водных ресурсов в Центральной Азии: взгляд из Узбекистана // Постсоветские исследования. 2021. Т. 4. № 6. С. 645-650. EDN: FAFEHM
3. Борисова Е., Панарин С. Противоречия безопасности на примере водно-энергетических проблем Центральной Азии // Россия и мусульманский мир. 2013. Т. 7. № 253. С. 78-84. EDN: QZKSXH
4. Боришполец К. П. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии: возможные пути решения // Вестник МГИМО-Университета. 2013. Т. 30. № 3. С. 25-28. DOI: 10.24833/2071-8160-2013-3-30-25-28 EDN: QCECZZ
5. Винокуров Е., Ахунбаев А., Усманов Н., Сарсембеков Т. Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Доклады и рабочие документы 22/4. - Алматы; М.: Евразийский банк развития. 2022. 112 p. URL: https://eabr.org/upload/iblock/622/EDB_2022_Report-4_Water-and-Energy-Complex-of-CA_rus.pdf (дата обращения 28.04.2024).
6. Винокуров Е., Ахунбаев А., Усманов Н., Цукарев Т., Сарсембеков Т. Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии. Доклады и рабочие документы. № 21/3. - Алматы; М.: Евразийский банк развития, 2021. 87 p. URL: https://eabr.org/upload/EDB-WEC-CA-Report_RU_web.cleaned.pdf (дата обращения 28.04.2024).
7. Гусев Л. Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их решения // Вестник МГИМО-Университета. 2013. Т. 6. № 33. С. 34-41. DOI: 10.24833/2071-8160-2013-6-33-34-41 EDN: RQDLXT
8. Денисов И. Е., Сафранчук И. А. Четыре проблемы ШОСвсвете вопроса о расширении организации // Вестник МГИМО-Университета. 2016. Т. 3. № 48. С. 112-122. DOI: 10.24833/2071-8160-2016-3-48-112-122 EDN: WEZROH
9. Жансаутова А., Нечаева Е., Казбекова М. Политические риски в обеспечении водной безопасности: опыт стран Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) // Центральная Азия и Кавказ. 2018. Т. 21. № 4. С. 27-37. EDN: INXGEX
10. Жильцов С., Бименова А. Политика стран Центральной Азии в области использования водных ресурсов трансграничных рек // Центральная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18. № 1. С. 90-100. EDN: TQVBAR
11. Зиганшина Д. Р. Роль водной дипломатии в обеспечении водной безопасности: обзор современной практики // Водная, энергетическая и продовольственная безопасность в странах ВЕКЦА: проблемы и решения: Сб. научн. трудов Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии. Вып. 6. Научно-исследовательский центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК). - Ташкент: НИЦ МКВК, 2013. С. 45-51.
12. Интегрированное управление водными ресурсами в Центральной Азии: проблемы управления большими трансграничными реками. - Стокгольм: Глобальное водное партнерство, 2014. 59 с. URL: https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/technical-focus-papers/05.-integrated-water-resources-management-in-central-asia-2014-russian.pdf (дата обращения 15.02.2024).
13. Ларионов К. Трансграничные воды Центральной Азии: место Кыргызстана в деятельности по спасению Арала // Central Asian Bureau for Analytical Reporting. 14.07.2020. URL: cabar.asia/ru/transgranichnye-vody-tsentralnoj-azii-mesto-kyrgyzstana-v-deyatelnosti-po-spaseniyu-arala (дата обращения 28.04.2024).
14. Орловский Н.С., Зонн И.С., Костяной А.Г., Жильцов С.С. Изменение климата и водные ресурсы Центральной Азии // Вестник Дипломатической академии МИД России. 2019. № 1. С. 56-78. EDN: WOTGJC
15. Притчин С. Энергетический кризис в странах Центральной Азии и перспективы их сотрудничества с Россией // Россия и новые государства Евразии. 2023. № III (LX). С. 94-104. DOI: 10.20542/2073-4786-2023-3-94-104 EDN: CTDAIS
16. Сафранчук И. Глобализация в головах // Россия в глобальной политике. 2015. Т. 13. № 1. С. 120-126. EDN: TNEBXJ
17. Сафранчук И. А. Эволюция позиции СШАвотношении роли Китая в Центральной Азии // Международная жизнь. 2015. № 8. С. 97-107. EDN: UCQMUT
18. Agrawal A.Common property institutions and sustainable governance of resources // World Development. 2001. V. 29. № 10. P. 1649-1672. DOI: 10.1016/s0305-750x(01)00063-8
19. Agrawal A., Goyal S. Group size and collective action: third-party monitoring in common-pool resources // Comparative Political Studies. 2001. V. 34. № 1. P. 63-93. EDN: JRCDWB
20. Bakker K. Water security: research challenges and opportunities // Science. 2012. V. 337. № 6097. P. 914-915.
21. Barandun M., Fiddes J., Scherler M., Mathys T., Saks T., Petrakov D., Hoelzle M. The state and future of the cryosphere in Central Asia // Water Security. 2020. V. 11. № 100072. 10.1016/j.wasec.2020.100072. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2468312420300122 (accessed 28.04.2024). DOI: 10.1016/j.wasec.2020.100072.URL EDN: PDCCRD
22. Climate Change in Central Asia: Decarbonization, Energy Transition and Climate Policy. Eds. R.Sabyrbekov, I.Overland, R.Vakulchuk. - Cham: Springer Nature, 2023. 170 p. DOI: 10.1007/978-3-031-29831-8
23. Cook C., Bakker K. Water security: debating an emerging paradigm // Global Environmental Change. 2012. V. 22. № 1. P. 94-102.
24. Debaere P. The tragedy of the (water) commons // Darden Case No. UVA-GEM-0174. University of Virginia, 2020. 10.2139/ssrn.3682604. 10.2139/ssrn.3682604; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682604 (accessed 15.06.2024). DOI: 10.2139/ssrn.3682604.URL
25. Ferraro P. J., Agrawal A. Synthesizing evidence in sustainability science through harmonized experiments: community monitoring in common pool resources // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021. V. 118. № 29. 10.1073/pnas.2106489118. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2106489118 (accessed 28.04.2024). DOI: 10.1073/pnas.2106489118.URL EDN: AZZNDO
26. Grech-Madin C., Döring S., Kim K., Swain A. Negotiating water across levels: a peace and conflict “toolbox” for water diplomacy // Journal of Hydrology. 2018. V. 559. P. 100-109.
27. Grey D., Sadoff C. W. Sink or swim? Water security for growth and development // Water Policy. 2007. V. 9. № 6. P. 545-571.
28. Hardin G. The tragedy of the commons: the population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality // Science. 1968. V. 162. 3859. P. 1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243 EDN: IDGGWT
29. Keohane R. O. The theory of hegemonic stability and changes in international economic regimes, 1967-1977 // Change in the international system. Eds. O.R.Holsti, R.M.Siverson, A.L.George. -Boulder: Westview Press, 1980. P. 131-162.
30. Khamidov M., Khamraev K. Water-saving irrigation technologies for cotton in the conditions of global climate change and lack of water resources // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. V. 883. № 1. 10.1088/1757-899X/883/1/012077. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/883/1/012077 (accessed 28.04.2024). DOI: 10.1088/1757-899X/883/1/012077.URL EDN: QBCLEB
31. Kreamer D. K. The past, present, and future of water conflict and international security // Journal of Contemporary Water Research and Education. 2012. V. 149. № 1. P. 87-95.
32. Kuzma S., Bierkens M. F. P., Lakshman S., Luo T., Saccoccia L., Sutanudjaja E. H., Van Beek R. Aqueduct 4.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators. - Washington D. C.: World Resources Institute, 2023. 52 p. 10.46830/writn.23.00061. URL: https://www.wri.org/research/aqueduct-40-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators (accessed 28.04.2024). DOI: 10.46830/writn.23.00061.URL
33. Link P. M., Scheffran J., Ide T. Conflict and cooperation in the water-security nexus: a global comparative analysis of river basins under climate change // WIREs Water. 2016. V. 3. № 4. P. 495-515. EDN: RPYVAT
34. Liu W. Assessment on the sustainability of water resources utilization in Central Asia based on water resources carrying capacity // Journal of Geographical Sciences. 2023. V. 33. № 10. P. 1967-1988. DOI: 10.1007/s11442-023-2161-3 EDN: DQXRKL
35. Liu W., Wang Y., and Huang J. Assessment on the sustainability of water resources utilization in Central Asia based on water resources carrying capacity // Journal of Geographical Sciences. 2023. V. 33. № 10. P. 1967-1988. DOI: 10.1007/s11442-023-2161-3 EDN: DQXRKL
36. McKean M. A. Success on the commons: a comparative examination of institutions for common property resource management // Journal of Theoretical Politics. 1992. V. 4. № 3. P. 247-281. EDN: JOCFXL
37. Menga F. Reconceptualizing hegemony: the circle of hydro-hegemony // Water Policy. 2016. V. 18. № 2. P. 401-418.
38. Ostrom E. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. - Cambridge: Cambridge University Press. 1990. 280 p.
39. Safranchuk I. Afghanistan’s political future and its role in Eurasian cooperation // India Quarterly. 2019. V. 75. № 1. P. 15-28. DOI: 10.1177/09749284188214 EDN: FBAHMC
40. Safranchuk I. A., Zhornist V. M., Nesmashnyi A. D., Chernov D. N. The dilemma of middlepowermanship in Central Asia: prospects for hegemony // Russia in Global Affairs. 2022. V. 20. № 3. P. 116-133. DOI: 10.31278/1810-6374-2022-20-3-116-133 EDN: WYBQDC
41. Slough T., Rubenson D., Levy R., Alpizar Rodriguez F., Bernedo del Carpio M., Buntaine M. T., Christensen D., Cooperman A., Eisenbarth S., Ferraro P. J., Graham L., Hartman A. C., Kopas J., McLarty S., Rigterink A. S., Samii C., Seim B., Urpelainen J., Zhang B. Adoption of community monitoring improves common pool resource management across contexts // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021. V. 118. № 29. 10.1073/pnas.2015367118. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2015367118 (accessed 28.04.2024). DOI: 10.1073/pnas.2015367118.URL
42. Snidal D. Public goods, property rights, and political organizations // International Studies Quarterly. 1979. V. 23. № 4. P. 532-566.
43. Snidal D. The limits of hegemonic stability theory // International Organization. 1985. V. 39. № 4. P. 579-614.
44. Szulecki K., Pattberg P., Biermann F. Explaining variation in the effectiveness of transnational energy partnerships // Governance. 2011. V. 24. № 4. P. 713-736.
45. Toset H. P. W., Gleditsch N. P., Hegre H. Shared rivers and interstate conflict // Political Geography. 2000. V. 19. № 8. P. 971-996. EDN: GWJPBL
46. Van Laerhoven F., Schoon M., Villamayor-Tomas S. Celebrating the 30th anniversary of Ostrom’s governing the commons: traditions and trends in the study of the commons, revisited // International Journal of the Commons. 2020. V. 14. № 1. P. 208-224. DOI: 10.5334/ijc.1030 EDN: VCIRQR
47. Wang X., Chen Y., Li Z., Fang G., Wang F., Hao H. Water resources management and dynamic changes in water politics in the transboundary river basins of Central Asia // Hydrology and Earth System Sciences. 2021. V. 25. № 6. P. 3281-3299. DOI: 10.5194/hess-25-3281-2021 EDN: LYHIOJ
48. Warner J. F., Zeitoun M.International relations theory and water do mix: а response to Furlong’s troubled waters, hydro-hegemony and international water relations // Political Geography. 2008. V. 27. № 7. P. 802-810.
49. Wolf A. T. Shared waters: conflict and cooperation // Annual Review of Environment and Resources. 2007. V. 32. № 1. P. 241-269.
50. Young O. R. Regime dynamics: the rise and fall of international regimes // International Organization. 1982. V. 36. № 2. P. 277-297.
51. Young O. R. Rights, rules, and common pools: solving problems arising in human/environment relations // Natural Resources Journal. 2007. V. 47. № 1. P. 1-16.
52. Young O. R. The politics of international regime formation: managing natural resources and the environment // International Organization. 1989. V. 43. № 3. P. 349-375. EDN: HIHRVJ
53. Zeitoun M., Warner J. Hydro-hegemony - a framework for analysis of trans-boundary water conflicts // Water Policy. 2006. V. 8. № 5. P. 435-460.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рецензия на: Великая А. А. Публичная дипломатия России и США. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2023. 192 с.
В статье рассматривается Европа в контексте многосторонних угроз.
Обзорная статья-рецензия. Рец. на: Аватков В. А. Россия, Турция и Постсоветский Восток в идейно–ценностной картине мировой политики. – Москва: Проспект, 2023. 176 с.
В статье рассматривается сложная динамика отношений между Пакистаном и Афганистаном после возвращения к власти движения Талибан в августе 2021 г. На фоне первоначальных надежд на стабилизацию и экономические перспективы в Афганистане росла обеспокоенность Исламабада ситуацией в этой стране по мере того, как система управления при талибах противоречила международным нормам, особенно в сфере прав человека и женщин. Исторический опыт недоверия, пограничные споры, а также пакистанская концепция «стратегической глубины» применительно к Афганистану еще более осложняли отношения между двумя странами. Еще одним источником напряженности стала активизация «Техрик-э-Талибан Пакистан»: Пакистан требует от афганских талибов противодействия этой вооруженной группировке, ведущей операции в т. ч. с территории Афганистана. Несмотря на обещания талибов бороться с ней, в этой сфере удалось достигнуть лишь ограниченного прогресса, что ведет к росту разочарования со стороны Пакистана и других соседей, прежде всего Китая. В заключении делается вывод о необходимости более нюансированных подходов к этим давним проблемам, включая посредничество третьих сторон в их решении, и к укреплению стабильности в регионе.
В статье анализируются материалы доклада Комиссии под руководством Дж. Чилкота, посвященного действиям британского правительства в преддверии и после вторжения в Ирак в 2003 г. на протяжении 2000-х годов. Рассматриваются подходы британских официальных лиц к использованию «мягкой силы» и формированию общественного мнения внутри страны и за рубежом в период подготовки и применения «жесткой силы» в Ираке и отличительные особенности формирования медиа-пространства в этот период; проведено их сравнение с современными подходами в этой сфере. На основе анализа приведенных в докладе выдержек из переписки официальных лиц, отчетов о встречах и переговорах и других документов, а также современных публикаций британского правительства выявлены значимые характеристики его стратегий по работе с партнерами, прессой и общественностью как в 2000-е годы, так и на современном этапе. Сделан вывод о том, что проявившиеся во время иракской кампании подходы и стратегии продолжают оставаться актуальными. Предложены оценки влияния подходов, использованных в рамках иракской кампании, на современную внутриполитическую ситуацию в Великобритании и ее потенциал «мягкой силы».
Понятие «мягкой силы», ставшее одним из важнейших компонентов внешней политики Китая со времен председательства Ху Цзиньтао, требует осмысления с точки зрения ее эффективности и конкретных шагов Китая на международной арене. Cтатья отвечает на вопросы о том, ограничивается ли применение инструментов «мягкой силы» культурным аспектом, как это указано в итоговых докладах XIX и XX съездов Коммунистической партии Китая (КПК); каковы фактические области ее применения; можно ли говорить о том, что Китай неизменно придерживается «мягкой силы» применительно к конкретным международным событиям; эффективна ли его внешняя политика с точки зрения применения инструментов «мягкой силы». Исследование, проведенное на базе первоисточников (прежде всего, итоговых докладов XIX и XX съездов КПК и социологических опросов), а также российской, китайской и западной научной литературы и экспертных оценок, с применением методов структурно-функционального, сравнительного и контент-анализа, позволяет сделать выводы о месте и роли «мягкой силы» во внешнеполитическом курсе КПК. Выявлено, что сфера применения Китаем инструментов «мягкой силы» не ограничивается областью культуры, несмотря на то, что в докладах КПК данное понятие употреблено исключительно в контексте культуры. На практике методы и подходы «мягкой силы» в значительной мере используются Китаем в сферах международной экономики и безопасности.
Гуманитарная политика играет значимую роль в формировании и реализации интересов государств на международной арене. Она позволяет устанавливать и развивать человеческие контакты, а также способствует укреплению культурных, научных и иных связей между странами и народами. Россия стремится к укреплению своих позиций в различных регионах мира, уделяя особое внимание сотрудничеству, в т. ч. гуманитарному, со странами Юго-Восточной Азии. Предпосылкой его успешного осуществления во многом являются исторически сформированные гуманитарные связи. Между тем, становление нынешних элит стран Юго-Восточной Азии пришлось на 1990-е - 2000-е годы, когда Россия самоустранилась из многих форматов сотрудничества. С начала 2020-х годов Москва пытается усилить свое гуманитарное присутствие по всем направлениям - в области культурного, научного и делового сотрудничества. В данную сферу вовлечены как официальные структуры (Россотрудничество), так и институты гражданского общества, например, Центр общественного и делового сотрудничества с Республикой Союз Мьянма. В Юго-Восточной Азии активно работают различные внерегиональные игроки, с которыми России приходится конкурировать, в т. ч. в гуманитарной сфере, и предлагать форматы сотрудничества, особенно те, которые соответствуют интересам молодежи.
Развитие событий в мире за полтора десятилетия с 2010-х годов заставило многих усомниться в том, что международные отношения становятся более мирными, и взамен провозгласить возрождение жесткой силы. Действительно, политические тенденции как на международном уровне, так и внутри отдельных стран усилили тенденции к разъединению, что побудило самых разнородных акторов мировой политики призвать к повторной глобализации. Внутренняя политика в западных странах сместилась вправо, что ведет к ужесточению барьеров для потоков людей и товаров. Этот реактивный меркантилизм вкупе с национализмом подорвал импульс к созданию «глобальной деревни». Масштабное международное насилие вновь вышло на первый план. Оно продемонстрировало, что конвенциональная война и масштабная военная сила не только в принципе могут служить полезным инструментом, но и широко используются на практике. В русле общего роста напряженности Северная Корея и Китай стали проявлять бóльшую настойчивость и напор в своей внешней политике. В целом наступление волны деглобализации заставило ученых усомниться в роли «мягкой силы» в условиях умножения разделительных линий и растущей готовности к конфронтации и применению военной силы в международных делах. Целью статьи является углубленное исследование соотношения мягкой и жесткой силы в свете этих тенденций. В ней проведено сравнение сильных и слабых сторон «жесткой» и «мягкой» силы и используется экономическая теория X–эффективности для оценки часто неявных преимуществ «мягкой силы». Сделан вывод о том, что для максимизации влияния страны в глобальной системе на устойчивой основе необходимы как «жесткая», так и «мягкая» сила.
К концу первой четверти XXI в. наблюдаются серьезные изменения не только в области концептуализации «мягкой силы», но и в сфере применения ее инструментария. Наряду со странами либерально-демократического мира, которым ресурсы «мягкой силы» традиционно помогали эффективно решать внешнеполитические задачи путем распространения своей повестки дня и модели государственного управления, многие незападные страны стали активнее использовать свои образовательные услуги, культурные продукты, инструменты спортивной дипломатии для достижения собственных геостратегических преимуществ и ограничения монополии Запада на формирование повестки дня и его так называемой нормативной силы. С обострением украинского и палестино-израильского конфликтов западные страны перешли к использованию инструментария так называемой острой силы с тем, чтобы делегитимизировать «мягкую силу» стран-конкурентов через инструменты «культуры отмены» и, в частности, ограничить возможности России использовать свои гуманитарные ресурсы во внешней политике. Опора на «острую силу» привела к дискредитации не просто концепции Дж. Ная, а базовых принципов функционирования гуманитарной сферы в целом. В этих условиях «мягкая сила» теряет свой изначально позитивный посыл, который помогал пропагандировать идеи повышения взаимозависимости как условия сохранения долгосрочных отношений партнерства и взаимной выгоды. Этот посыл заменяется инструментами манипулирования общественным сознанием - прежде всего, в силу того, что государства стремятся обеспечить доминирование своих нарративов за максимально сжатые сроки. Несмотря на то, что в условиях конфликтов преобладает именно «острая сила», востребованность инструментария «мягкой силы» не исчезает полностью. Это нашло отражение в концепции гуманитарной политики РФ за рубежом (2022 г.), где инструменты «мягкой силы» признаются важным средством нейтрализации антироссийских настроений.
В статье исследуется конфликтное взаимодействие Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки в контексте сирийского кризиса. Выявлено, что если Анкара на раннем этапе сирийских событий руководствовалась преимущественно идейно-ценностным фактором, то США преследовали свои национальные интересы, стремясь всеми способами извлечь из ситуации как можно больше преференций. Этим подходом в значительной мере продиктовано и сотрудничество США с курдскими формированиями в Сирии. Сделан вывод о том, что, несмотря на непрямое вхождение Турции в конфликт в качестве партнера США в начале «арабской весны», в первой половине 2020-х годов Анкара уже являлась вполне самостоятельным игроком на сирийской арене. Сирия окончательно выделилась в отдельное направление внешнеполитической деятельности Турции, не связанное с региональной политикой США. При этом самостоятельность Турции, не принимаемая американской стороной, является дополнительным фактором, осложняющим координацию между ними «на земле». Выявлено, что ключевой проблемой, повышающей уровень конфликтного взаимодействия Анкары и Вашингтона в Сирии, остается проблематика американского сотрудничества с курдскими формированиями. Для оценки перспектив трансформации конфликтного взаимодействия Анкары и Вашингтона в статье используются теория сценариев с фокусом на методике «неизбежное будущее», а также метод SWOT-анализа. На этой основе сделан вывод о неизбежности эскалации напряженности между Турцией и США в Сирии. При этом ключевой переменной становится степень остроты конфронтации США и Турции. Анализ возможностей и угроз для двустороннего взаимодействия показал ограниченность положительного исхода и его зависимость от изменения баланса сил в регионе с участием третьих игроков.
В середине 2020-х годов влияние Йемена на региональную политику на Ближнем Востоке трудно недооценить, несмотря на то, что страна долгое время не может выйти из затяжного экономического, политического и гуманитарного кризиса. В статье исследуется ситуация в Йемене и ее влияние на геополитическую обстановку в ближневосточном регионе. Кризис в Йемене рассматривается начиная с событий «арабской весны» 2011 г., которые спровоцировали гражданскую войну, в той или иной форме продолжающуюся по сей день. Особое внимание уделено отношениям между Саудовской Аравией и Ираном как ключевыми региональными державами на Ближнем Востоке и сфокусировано на их соперничестве за влияние в регионе, которое в последние годы сочетается с относительным саудовско–иранским сближением, а также на их влиянии на йеменский кризис. Наконец, в статье анализируются события, связанные с участием Йемена в палестино–израильском конфликте с конца 2023 г., включая попытки Йемена установить морскую блокаду Израиля и потенциал анти йеменской коалиции во главе с США.
В статье исследуются особенности конфессиональной экспансии Исламской Республики Иран в арабских странах Ближнего Востока. Показаны социально-политические предпосылки и мотивы религиозной политики Ирана в условиях сирийского кризиса. Особое внимание уделено изменению парадигмы вооруженных конфликтов в регионе как фактора влияния на создание военизированных формирований (милиций) и выбор инструментов гуманитарной политики Ирана в Сирии и Ираке. Проанализирована история различных шиитских милиций в Сирии и Ираке, их идеологическая основа и результаты деятельности, на основе сравнительного анализа предложена их авторская типология. В качестве стратегических установок религиозной экспансии Ирана на Ближнем Востоке исследуются активная работа по распространению шиитского вероучения, формирование правительств шиитского большинства, поддержка негосударственных формирований и создание проиранских милиций. С одной стороны, сделан вывод о том, что интеграция проиранских милиций в арабские вооруженные силы и распространение шиизма заметно укрепили иранские позиции в регионе. С другой стороны, показано, что в условиях конфликта в Газе результаты религиозной политика Ирана неоднозначно сказались на отношениях Тегерана с ключевыми региональными и мировыми игроками и поставили под угрозу иранские позиции на Ближнем Востоке. Вопреки заявлениям и предпочтениям Тегерана, атаки шиитских милиций по американским и израильским целям в регионе фактически сделали Иран участником войны в Газе, а также влияют на процесс сближения Ирана с арабскими странами и взаимодействие с международными партнерами по процессу примирения в Сирии. С учетом значимости палестино-израильского конфликта для ближневосточной политики России статья вносит вклад в изучение иранской политики в регионе и дает представление о поведенческой модели Ирана в кризисных условиях на Ближнем Востоке.
После Исламской революции 1979 года Иран всегда проводил антиизраильскую политику. Религиозная и идеологическая вражда с Израилем по-прежнему является жизненно важным элементом доктрины Исламской Республики, революционная идеология которой открыто отвергает существование Израиля и призывает к тому, чтобы Израиль “был стерт с лица земли”. Однако сосредоточения на этой идеологической доктрине недостаточно для понимания политики Ирана в отношении Израиля, палестинского вопроса и проблемы Газы. Если бы политика ИРИ определялась исключительно ее революционными идеалами, Иран присоединился бы к войне в Газе или подтолкнул бы “Хезболлу” к тотальной конфронтации с Израилем. Тот факт, что Иран не предпринял подобных мер, является не просто выражением сдержанности - это свидетельствует о его рациональном и прагматичном подходе. Хотя идеологическое революционное видение уничтожения Израиля не было отброшено, политика Ирана все больше ориентируется на ряд потребностей в области безопасности и стратегических целей, поставленных его руководством в соответствии с меняющимися национальными стратегическими интересами. С начала нового острого кризиса вокруг сектора Газа и в самом секторе Газа в октябре 2023 года широко обсуждалась текущая и потенциальная роль Ирана в палестино-израильском контексте. В Израиле и на Западе принято считать, что, поскольку Иран поддерживает ХАМАС и поздравляет его с нападением 7 октября 2023 года, он, возможно, не захочет или не сможет оставить ХАМАС в покое перед лицом крупномасштабной войны в Газе, если не сам по себе, то, по крайней мере, через своих региональных союзников, сделает все, чтобы поддержать ХАМАС. Однако сам Иран преследовал две цели: с одной стороны, избежать втягивания в региональную войну, а с другой - остановить израильскую агрессию против Газы. В результате Тегеран пытается заработать пропагандистские очки на кризисе в Газе, не развязывая более масштабной войны. Прямое участие в войне лицом к лицу с Израилем потенциально может спровоцировать вмешательство США, что приведет к огромным потерям для Ирана. Хотя Иран не хочет полномасштабной войны, он намерен поддерживать свою репутацию ведущей силы, противостоящей Израилю в мусульманском мире, особенно учитывая разрушительную ситуацию в Газе. С этой целью Иран использовал ХАМАС и войну в Газе для активизации своей региональной сети союзников и ставленников против Израиля. Однако, когда конфликт в Газе закончится, Иран будет поощрять своих ставленников к деэскалации напряженности для поддержания мира и стабильности в регионе.
В статье исследуются причины и предпосылки социально-политического кризиса в Израиле после выборов 2022 г. Ярким проявлением этого кризиса стали беспрецедентные протесты против предложенной правительством Б. Нетаньяху судебной реформы. На фоне накопившихся противоречий стала очевидной уязвимость государства перед лицом наиболее острых угроз безопасности. В октябре 2023 г. террористы из сектора Газа атаковали мирных граждан Израиля, убив более 1300 человек и взяв в плен более 200. Авторы анализируют взгляды и подходы израильского правительства к проблеме сектора Газа. Они отмечают, что израильское руководство оказалось неспособным сосредоточиться на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта. Трагедия 7 октября 2023 г. привела к дальнейшей радикализации позиций как израильской политической элиты, так и общества в целом. В ответ на теракт израильское руководство начало военную операцию «Железные мечи», которая расколола политическую и военную элиту страны. Актуальные планы на период после завершения военной операции свидетельствуют о том, что у израильского правительства отсутствует стратегическое видение будущего как израильского присутствия в Газе, так и развития сектора Газа в целом.
Затяжной палестино–израильский конфликт продолжает служить причиной масштабных гуманитарных кризисов. В статье исследуется проблема палестинских беженцев за период с 1948 г. до конфликта между движением «Хамас» и Израилем начиная с 7 октября 2023 г., через призму концепции правосудия переходного периода. Правосудие переходного периода призвано найти такое решение проблемы нарушений прав человека в ходе конфликта, которое бы способствовало бы примирению его сторон. Оно дает возможность по-новому посмотреть на многолетнюю проблему палестинских беженцев. Вооруженный конфликт 2023–2024 годов привел к вынужденному перемещению более 1,7 миллиона человек в Газе, с новой силой подчеркнув необходимость поиска устойчивых решений этой проблемы. Содержащийся в статье краткий обзор конфликта между Израилем и движением «Хамас» сфокусирован на проблеме палестинских беженцев в Газе. Приведен обзор исторического контекста проблемы палестинских беженцев начиная с 1948 г. и двух основных нарративов, посвященных ей. Также изложены принципы правосудия переходного периода и проведен анализ его элементов в ходе предыдущих переговоров между Израилем и палестинцами. Наконец, рассматривается вопрос о том, насколько и как теория и практика правосудия переходного периода применимы к текущему конфликту. В частности, исследуется, как такие принципы и инструменты правосудия переходного периода, как комиссии по примирения и репарации, могут помочь устранить историческую и современную несправедливость, несмотря на острое недоверие между сторонами, политическое сопротивление решению проблемы беженцев и другие вызовы. В нынешних условиях эффективное применение правосудия переходного периода в данном контексте крайне затруднено. Хотя применение правосудия переходного периода к проблеме палестинских беженцев в Газе может помочь признать нарушения их прав в прошлом, обеспечить возмещение нанесенного им ущерба и предотвратить насилие в будущем, для этого сначала требуется преодолеть значительные политические препятствия. Тем не менее этот подход, несмотря на все сложности, предлагает один из возможных путей к достижению устойчивого мира и примирения в регионе.
Статья посвящена анализу современных идейных позиций организации «Исламский джихад в Палестине» и выявлению соотношения националистических и исламистских элементов в ее идеологии. Актуальность темы обусловлена резким обострением ситуации в Палестине в 2023-2024 годах, возросшей ролью радикальных исламистских движений в палестинском политическом поле, а также трансформацией современного исламизма, в котором глобальный религиозно-политический проект переплетается с националистическими идеями. В методологическом плане исследование основано на методе медленного, или внимательного, чтения (“close reading”) и разработанной автором методике неомодернистского анализа политических стратегий. Основным источником исследования является опубликованный в 2018 г. «Политический документ» «Исламского джихада». В статье последовательно анализируются следующие элементы документа: преамбула, идентичность организации, ее взгляд на прошлое и настоящее Палестины и палестинцев, образ врага и методы борьбы с ним, роль внешних акторов и международные аспекты решения палестинской проблемы. После детального анализа документа выявляются основные элементы его идеологии и ее связи с идеологическими исканиями арабских националистов. В завершение анализируется базовый нарратив палестинского движения «Исламский джихад», включающий исламистские, консервативные и левые элементы.
Статья посвящена анализу современных идейных позиций организации «Исламский джихад в Палестине» и выявлению соотношения националистических и исламистских элементов в ее идеологии. Актуальность темы обусловлена резким обострением ситуации в Палестине в 2023-2024 годах, возросшей ролью радикальных исламистских движений в палестинском политическом поле, а также трансформацией современного исламизма, в котором глобальный религиозно-политический проект переплетается с националистическими идеями. В методологическом плане исследование основано на методе медленного, или внимательного, чтения (“close reading”) и разработанной автором методике неомодернистского анализа политических стратегий. Основным источником исследования является опубликованный в 2018 г. «Политический документ» «Исламского джихада». В статье последовательно анализируются следующие элементы документа: преамбула, идентичность организации, ее взгляд на прошлое и настоящее Палестины и палестинцев, образ врага и методы борьбы с ним, роль внешних акторов и международные аспекты решения палестинской проблемы. После детального анализа документа выявляются основные элементы его идеологии и ее связи с идеологическими исканиями арабских националистов. В завершение анализируется базовый нарратив палестинского движения «Исламский джихад», включающий исламистские, консервативные и левые элементы.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ИМЭМО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
- Юр. адрес
- 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
- ФИО
- Войтоловский Федор Генрихович (И.о. директора)
- E-mail адрес
- imemoran@imemo.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1205236
- Сайт
- http://www.imemo.ru