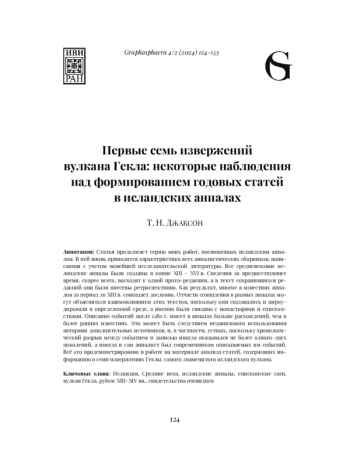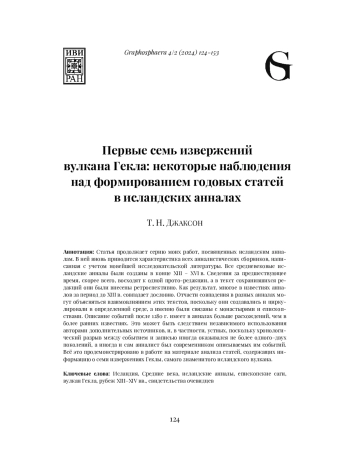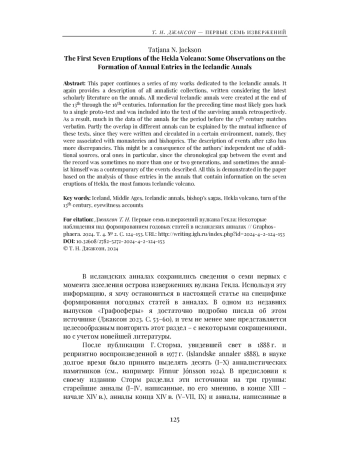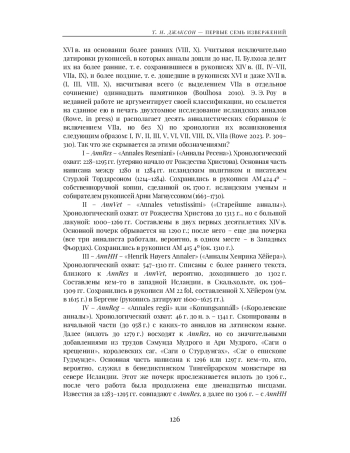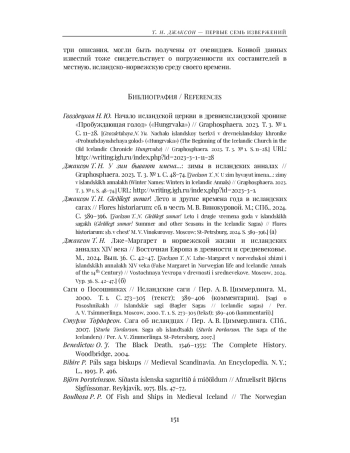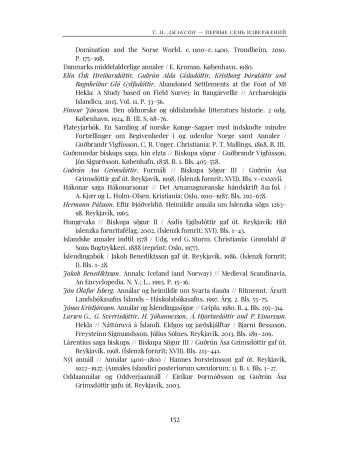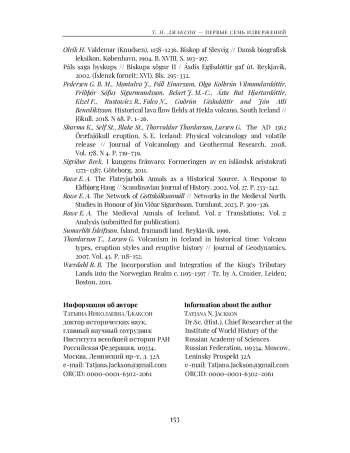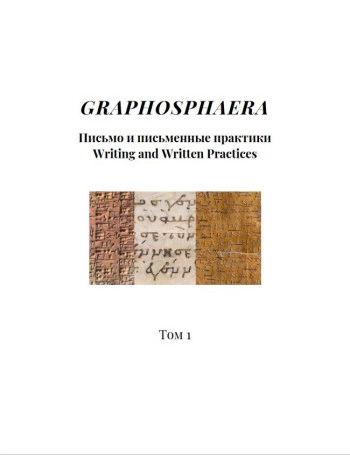Статья продолжает серию моих работ, посвященных исландским анналам. В ней вновь приводится характеристика всех анналистических сборников, написанная с учетом новейшей исследовательской литературы. Все средневековые исландские анналы были созданы в конце XIII - XVI в. Сведения за предшествующее время, скорее всего, восходят к одной прото-редакции, а в текст сохранившихся редакций они были внесены ретроспективно. Как результат, многое в известиях анналов за период до XIII в. совпадает дословно. Отчасти совпадения в разных анналах могут объясняться взаимовлиянием этих текстов, поскольку они создавались и циркулировали в определенной среде, а именно были связаны с монастырями и епископствами. Описание событий после 1280 г. имеет в анналах больше расхождений, чем в более ранних известиях. Это может быть следствием независимого использования авторами дополнительных источников, и, в частности, устных, поскольку хронологический разрыв между событием и записью иногда оказывался не более одного-двух поколений, а иногда и сам анналист был современником описываемых им событий. Всё это продемонстрировано в работе на материале анализа статей, содержащих информацию о семи извержениях Геклы, самого знаменитого исландского вулкана.
Идентификаторы и классификаторы
Извержение Геклы 1341 г. изобилует деталями, заставляющими думать, что они восходят к свидетельствам очевидцев. Подробности в чем-то совпадают в разных анналах, а в чем-то разнятся. В формулировке AnnReg с извержением сразу же соединяется óár – плохой год, год неурожая, недорода; его упоминание даже опережает «пеплопад» (ǫskufall) – выпадение не песка, а именно пепла, от которого горят дома, а в данном случае «многие населенные местности». Очень образно в текстах описана наступившая темнота: «такая сильная днем, как зимой ночью» (AnnReg), «ни малейшего просвета, как если бы люди были слепы» (AnnSkh), «днем жгли свет в домах» (AnnGott). Выразительно (и без повторения где-либо) записано, что «пепел был по лодыжку». (AnnSkh) Уникально и известие ABSkh о том, что «между “днями переезда” (в начале июня) и днем Святого Петра (12 июля) только в Скальхольте пало 80 быков». В AnnGott объясняется, что рогатый скот погибал от пеплопада, «так что многие люди лишились скота и ушли из своих домов, покинули свои владения и земли».
Список литературы
1. Гвоздецкая Н. Ю. Начало исландской церкви в древнеисландской хронике “Пробуждающая голод” (“Hungrvaka”) // Graphosphaera. 2023. Т. 3. № 1. С. 11-28.
Gvozdetskaya N. Yu. Nachalo islandskoy tserkvi v drevneislandskoy khronike “Probuzhdayushchaya golod” (“Hungrvaka”) (The Beginning of the Icelandic Church in the Old Icelandic Chronicle Hungrvaka) // Graphosphaera. 2023. Т. 3. № 1. S. 11-28. URL: http://writing.igh.ru/index.php?id=2023-3-1-11-28.
2. Джаксон Т. Н. У зим бывают имена…: зимы в исландских анналах // Graphosphaera. 2023. Т. 3. № 1. С. 48-74.
Jackson T. N. U zim byvayut imena…: zimy v islandskikh annalakh (Winter Names: Winters in Icelandic Annals) // Graphosphaera. 2023. Т. 3. № 1. S. 48-74. URL: http://writing.igh.ru/index.php?id=2023-3-1.
3. Джаксон Т. Н. Gleðilegt sumar! Лето и другие времена года в исландских сагах // Flores historiarum: сб. в честь М. В. Винокуровой. М.; СПб., 2024. С. 389-396.
Jackson T. N. Gleðilegt sumar! Leto i drugie vremena goda v islandskikh sagakh (Gleðilegt sumar! Summer and other Seasons in the Icelandic Sagas) // Flores historiarum: sb. v chest’ M. V. Vinokurovoy. Moscow; St-Petrsburg, 2024. S. 389-396. (а).
4. Джаксон Т. Н. Лже-Маргарет в норвежской жизни и исландских анналах XIV века // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 2024. Вып. 36. С. 42-47. EDN: UIJUMB
Jackson T. N. Lzhe-Margaret v norvezhskoi zhizni i islandskikh annalakh XIV veka (False Margaret in Norwegian life and Icelandic Annals of the 14th Century) // Vostochnaya Yevropa v drevnosti i srednevekove. Moscow, 2024. Vyp. 36. S. 42-47. (б).
5. Саги о Посошниках // Исландские саги / Пер. А. В. Циммерлинга. М., 2000. Т. 1. С. 273-305 (текст); 389-406 (комментарии).
Sagi o Pososhnikakh // Islandskie sagi (Bagler Sagas // Icelandic sagas) / Per. A. V. Tsimmerlinga. Moscow, 2000. T. 1. S. 273-305 (tekst); 389-406 (kommentarii).
6. Стурла Тордарсон. Сага об исландцах / Пер. А. В. Циммерлинга. СПб., 2007.
Sturla Tordarson. Saga ob islandtsakh (Sturla Þorðarson. The Saga of the Icelanders) / Per. A. V. Zimmerlinga. St-Petersburg, 2007.
7. Benedictow O. J. The Black Death 1346-1353: The Complete History. Woodbridge, 2004.
8. Bibire P. Páls saga biskups // Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. N. Y.; L., 1993. P. 496.
9. Björn Þorsteinsson. Síðasta íslenska sagnritið á miðöldum // Afmælisrit Björns Sigfússonar. Reykjavík, 1975. Bls. 47-72.
10. Boulhosa P. P. Of Fish and Ships in Medieval Iceland // The Norwegian Domination and the Norse World, c. 1100-c. 1400. Trondheim, 2010. P. 175-198.
11. Danmarks middelalderlige annaler / E. Kroman. København, 1980.
12. Elín Ósk Hreiðarsdóttir, Guðrún Alda Gísladóttir, Kristborg Þórsdóttir and Ragnheiður Gló Gylfadóttir. Abandoned Settlements at the Foot of Mt Hekla: A Study based on Field Survey in Rangárvellir // Archaeologia Islandica. 2015. Vol. 11. P. 33-56.
13. Finnur Jónsson. Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. 2 udg. København, 1924. B. III. S. 68-76.
14. Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer med indskudte mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler / Guðbrandr Vigfússon, C. R. Unger. Christiania: P. T. Mallings, 1868. B. III.
15. Guðmundar biskups saga, hin elzta // Biskupa sögur / Guðbrandr Vigfússon, Jón Sigurðsson. Københafn, 1858. B. 1. Bls. 405-558.
16. Guðrún Ása Grímsdóttir. Formáli // Biskupa Sögur III / Guðrún Ása Grímsdóttir gaf út. Reykjavík, 1998. (Íslenzk fornrit; XVII). Bls. v-cxxxvii.
17. Hákonar saga Hákonarsonar // Det Arnamagnæanske håndskrift 81a fol. / A. Kjær og L. Holm-Olsen. Kristiania; Oslo, 1910-1987. Bls. 292-678.
18. Hermann Pálsson. Eftir Þjóðveldið. Heimildir annála um Íslenzka sögu 1263-98. Reykjavík, 1965.
19. Hungrvaka // Biskupa sögur II / Ásdís Egilsdóttir gaf út. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag, 2002. (Íslenzk fornrit; XVI). Bls. 1-43.
20. Islandske annaler indtil 1578 / Udg. ved G. Storm. Christiania: Grøndahl & Sons Bogtrykkeri, 1888 (reprint: Oslo, 1977).
21. Íslendingabók / Jakob Benediktsson gaf út. Reykjavík, 1986. (Íslenzk fornrit; I). Bls. 1-28.
22. Jakob Benediktsson. Annals: Iceland (and Norway) // Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. N. Y.; L., 1993. P. 15-16.
23. Jón Ólafur Ísberg. Annálar og heimildir um Svarta dauða // Ritmennt. Ársrit Landsbókasafns Íslands - Háskolabókasafns. 1997. Árg. 2. Bls. 55-75.
24. Jónas Kristjánsson. Annálar og Íslendingasögur // Gripla. 1980. B. 4. Bls. 295-314.
25. Larsen G., G. Sverrisdóttir, H. Jóhannesson, Á. Hjartardóttir and P. Einarsson. Hekla // Náttúruvá á Íslandi. Eldgos og jarðskjálftar / Bjarni Bessason, Freysteinn Sigmundsson, Júlíus Sólnes. Reykjavík, 2013. Bls. 189-209.
26. Lárentíus saga biskups // Biskupa Sögur III / Guðrún Ása Grímsdóttir gaf út. Reykjavík, 1998. (Íslenzk fornrit; XVII). Bls. 213-441.
27. Nýi annáll // Annálar 1400-1800 / Hannes Þorsteinsson gaf út. Reykjavík, 1922-1927. (Annales Islandici posteriorum sæculorum; 1). B. 1. Bls. 1-27.
28. Oddaannálar og Oddverjaannáll / Eiríkur Þormόðsson og Guðrún Ása Grímsdόttir gafu út. Reykjavík, 2003.
29. Olrik H. Valdemar (Knudsen), 1158-1236, Biskop af Slesvig // Dansk biografisk leksikon. København, 1904. B. XVIII. S. 193-197.
30. Páls saga byskups // Biskupa sögur II / Ásdís Egilsdóttir gaf út. Reykjavík, 2002. (Íslenzk fornrit; XVI). Bls. 295-332.
31. Pedersen G. B. M., Montalvo J., Páll Einarsson, Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Friðþór Sófus Sigurmundsson, Belart J. M.-C., Ásta Rut Hjartardóttir, Kizel F., Rustowicz R., Falco N., Guðrún Gísladóttir and Jón Atli Benediktsson. Historical lava flow fields at Hekla volcano, South Iceland // Jökull. 2018. N 68. P. 1-26.
32. Sharma K., Self St., Blake St., Thorvaldur Thordarson, Larsen G. The AD 1362 Öræfajökull eruption, S. E. Iceland: Physical volcanology and volatile release // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2008. Vol. 178. N 4. P. 719-739.
33. Sigríður Beck. I kungens frånvaro: Formeringen av en isländsk aristokrati 1271-1387. Göteborg, 2011.
34. Rowe E. A. The Flateyjarbók Annals as a Historical Source. A Response to Eldbjørg Haug // Scandinavian Journal of History. 2002. Vol. 27. P. 233-242.
35. Rowe E. A. The Network of Gottskálksannáll // Networks in the Medieval North. Studies in Honour of Jón Viðar Sigurðsson. Turnhaut, 2023. P. 309-326.
36. Rowe E. A. The Medieval Annals of Iceland. Vol. 1: Translations; Vol. 2: Analysis (submitted for publication).
37. Sumarliði Ísleifsson. Ísland, framandi land. Reykjavík, 1996.
38. Thordarson T., Larsen G. Volcanism in Iceland in historical time: Volcano types, eruption styles and eruptive history // Journal of Geodynamics. 2007. Vol. 43. P. 118-152.
39. Wærdahl R. B. The Incorporation and Integration of the King’s Tributary Lands into the Norwegian Realm c. 1195-1397 / Tr. by A. Crozier. Leiden; Boston, 2011.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В 2008 г. в алтарной зоне Успенского собора во Владимире на росписи, выполненной в эпоху Андрея Рублева, было обнаружено граффито, состоящее из двух строк с одинаковым текстом. А. А. Медынцева, исследовавшая надпись, считала ее записью заказа на требы, которые священник и дьякон Успенского собора должны были выполнить, выехав в «стан». Дублирующая надпись в таком случае является следствием повторного вызова служителей храма. Согласно уточненному прочтению, в граффито зафиксировано употребление народной формы имени Евстафий - Останя («WcmaHA»). Надпись же следует трактовать так, что Останя вызывает «попа да дьякона» Успенского собора на какое-то судебное или административное разбирательство, скорее всего, в качестве свидетелей. Если это верно, двойное граффито с одинаковым текстом в месте непосредственной службы вызываемых становится очень интересным примером повестки или позовницы, отраженной в храмовой эпиграфике первой половины XVI в., и еще одним примером настенной надписи деловой тематики.
В статье предложено новое прочтение надписи на меловом камне из г. Хелм (Польша, др.-русск. Хълмъ), найденной в 1990-е гг. и опубликованной В. Слободяном в 2013 г. Соглашаясь с издателем в оценке основного содержания надписи, сообщающей, что некий Сиворд Олафович (судя по имени и отчеству - скандинав) провел год в заключении, автор иначе трактует текст и ситуацию в целом. В предложенной интерпретации текст граффито прочитывается как памятная надпись, сделанная Сивордом Олафовичем сразу после освобождения или еще во время заключения. В темницу автор надписи был посажен, напомнив в письме князю о каких-то деньгах (возможно, сумме, которую князь должен был заплатить Сиворду). Несостоятельной признается также предложенная издателем ранняя датировка надписи (до 1120), а с ней и гипотеза, отождествляющая Холм на Волыни с Хольмгардом скандинавских источников. Палеографический анализ по методике А. А. Зализняка позволяет датировать граффито второй половиной XIII в., т. е. временем основания города Даниилом Романовичем.
В данной работе представлены полный комментированный перевод на русский язык мемориального текста в честь юаньского князя Коргиса (Георгия), происходившего из династии онгутских ханов и находившегося в родстве с «золотым родом» Чингисхана, который был написан юаньским историографом Янь Фу (1236-1312) в 1305 г., и сопровождающая его статья. В статье, носящей источниковедческий и исследовательский характер, сообщается также и о результатах изучения данного источника, которые проводили как китайские, так и отечественные исследователи, и в частности - Н. Ц. Мункуев. В переведенном тексте сообщаются сведения о жизни и деятельности таких исторических лиц, как Чингисхан с сыновьями, его дочери, внуки и правнуки (Мэнгукаан, Хубилай, император Юань Тэмур и другие чингизиды), онгутский хан Алахуштегин и его потомки, породнившиеся с Чингисханом и его потомками, хан Хайду (внук каана Угэдэя), вожди кочевых родов и племенных объединений - как сподвижники Чингисхана, так и его противники. Переведенный текст содержит целый ряд ценных сведений о периоде от начала создания державы Чингисхана и почти до конца правления юаньского императора Тэмура. Эти сведения охватывают следующие вопросы: происхождение «белых татар», они же онгуты; генеалогии онгутской династии и чингизидов; начальный период державы Чингисхана и политика последнего по консолидации кочевых племен; привилегированная роль онгутских князей при Юань и их участие на стороне Хубилая в борьбе последнего с различными чингизидами, претендентами на верховную власть - от Ариг-Буги до Хайду.
В составе архива тайных монашеских общин Высоко-Петровского монастыря 1920-1950-х гг. наибольшее внимание привлекают такие датированные памятники, как сборники изречений настоятеля монастыря епископа Варфоломея (Ремова) и богослужебный дневник схиархимандрита Игнатия (Лебедева). В случае первого памятника даты рядом с изречениями (вместе с содержанием самих высказываний) служат ключом для понимания генезиса этих сборников. Мы видим, что они составлялись, с одной стороны, из цитат из проповедей высоко-петровского настоятеля, а с другой стороны, из его ответов на откровение помыслов. Оба памятника сложились в контексте практики духовного руководства, характерной для высоко-петровских общин. В рамках этой практики формировалось повышенное внимание к слову духовного наставника, стремление зафиксировать его и регулярно перечитывать. Такое внимание к слову руководителя ярко иллюстрируют сборники изречений епископа Варфоломея. Наряду с вниманием к высказываниям наставника, его словесным наставлениям в рамках практики духовного руководства формировалось и пристальное внимание к его действиям, к его поведению, так сказать, к безмолвным наставлениям. Свидетельством такого внимания и является богослужебный дневник схиархимандрита Игнатия. Оба рассмотренных памятника оказываются порождением той аскетической традиции, которую высоко-петровские наставники стремились сохранить в самых неблагоприятных условиях.
В работе рассматривается комплекс дневников детского периода жизни Н. Г. Бережкова, - крупнейшего советского историка-литуаниста, автора «Литовской метрики», а также специалиста по хронологии русского летописания. В его одноименном труде выверены и систематизированы датировки из летописных источников домонгольского периода. События, приведенные авторами первоисточников в различных стилях летоисчисления, были сверены и упорядочены. Параллельно с этой работой (и напрямую являясь ее следствием) были закрыты многие вопросы спорных датировок. Рассматриваемый в данной статье комплекс детских дневников Н. Г. Бережкова за 18971900 гг. представляет собой богатейший источник информации о семейной и учебной среде, которая, несомненно, повлияла на становление личности ученого. На основании эго-документов приводится выборка наиболее ярко отраженных в обыденной жизни свойств характера юноши, делается попытка анализа склонностей и интересов, их осмысления и соотнесения с теми качествами, которые впоследствии проявлялись у историка Н. Г. Бережкова при написании его тщательных и добросовестно выверенных научных трудов. Впрочем, можно сказать, что уже сам факт ежедневного ведения дневников являлся значительной предпосылкой для дальнейшего научного труда ученого.
В статье предпринят анализ Нового летописца, одного из крупнейших исторических сочинений XVII в., с точки зрения наличия в нем погодных записей. Новый летописец уже не является летописью, обозначение времени в нем отличается от летописных погодных записей. Годы обозначены только в начальной и конечной части памятника. Это связано с особенностями составления Нового летописца, а также с его источниками. Хотя годы в большей части текста и не обозначены, но некоторые следы погодного повествования там можно заметить. Речь идет о начальных формулах, которые используются в ряде глав, чтобы соотнести события с теми, о которых шла речь ранее. Подсчеты показывают, что наибольшая часть текста Нового летописца, а именно, всё повествование о Смуте начала XVII в., не разделено по годам, но разбито на главы, выстроенные хронологически. Вся Смута в итоге представала перед читателем как единая цепь событий, следующих друг за другом во временной очередности. Отсутствие годов при этом подтверждает предположение, что при составлении памятника использовались не столько письменные источники, сколько воспоминания участников Смуты или же их родственников.
На основе 848 сообщений с допустимо-точными локализациями местонахождения Ивана IV - в пределах года / месяца / (дня) - в составе московских летописных сводов за 1530-1567 гг. в статье рассмотрено распределение информации о жизни Ивана Васильевича по месяцам года. Концентрация внимания летописцев к событиям мая-июня и сентября-октября в годичном цикле вызвана рядом факторов, которые связаны как с особенностями годичного праздничного круга в православии, так и с церемониальной активностью двора, царя и царской семьи. Эти особенности летописного дела сказываются на объеме информации по менее освещенным периодам года, среди которых наименее насыщены апрель и август. На апрель чаще всего приходились завершение Великого Поста, дни Пасхи и Светлой Седмицы. С этим обстоятельством связано и слабое освещение событий, приходившихся на Великий Пост и предпостные недели, а также на Светлую Седмицы и все дни вплоть до Троицы. Летописное «молчание» по поводу августовских событий не находит подобного объяснения и не подкрепляется объемом нелетописной информации о деятельности царя. Несмотря на относительно слабое освещение августовских событий в летописях, это был насыщенный месяц, сопоставимый по объему информации об Иване IV с одним из самых насыщенных фиксируемой деятельностью периодов - сентябрем. Причины летописного невнимания к августу требуют иных интерпретаций.
В статье рассмотрены приемы составителей летописей 1440-х гг. (Летопись Авраамки, Рогожский летописец, Комиссионный список Новгородской I летописи младшего извода) на участке «Повести временных лет» (статьи за IX -начало XII в.; далее: ПВЛ). Выдвинута гипотеза, что при работе с летописным материалом, описывающим реалии давно прошедшего времени, составители летописей работали со своими источниками по очереди - чересполосно. Они не пытались увеличить объем существующей информации внутри одной годовой статьи, а использовали некий механический способ, используя текст второго источника либо для увеличения количества годовых статей при сохранении их небольшого объема (Летопись Авраамки, Рогожский летописец), либо (в случае, когда такие дополнения невозможны) используя первый и второй фактически идентичные по тексту источники попеременно (Комиссионный список). Эти приемы работы летописца следует противопоставить приему, который можно назвать контаминацией, когда смешение источников, в основном, происходит внутри летописного известия, как, например, при создании текста Новгородской Карамзинской летописи.
Статья посвящена месяцесловным датировкам в летописании СевероВосточной Руси XII - начала XIV в., которые вносились современно событиям. Оригинальные месяцесловные датировки появляются здесь при Андрее Боголюбском, с 1158 г., но его летописание дает всего 4 таких случая. Хотя выявить календарь, которое оно использовало, точно не удается, наиболее вероятно, что это была созданная при нем в 1160-е гг. пространная редакция Пролога, что, возможно, и послужило толчком для введения месяцесловных датировок во владимирское летописание. Зависимость анктесяцеслова Пролога несомненна для летописания Всеволода Большое Гнездо, где число месяцесловных датировок резко возрастает (85,5% всех точных дат). Для последующих этапов летописания источник месяцесловных датировок точно установить не удается. В эпоху Всеволодичей процент всех «церковных» датировок ключевых событий снижается до 64,7%, а с 6769 г. начинает доминировать запись ключевых событий без точных дат (66,6%), так что датировка событий по церковному календарю здесь - скорее дань традиции времен Всеволода. После монгольского нашествия, когда процент «церковных» датировок событий падает до 35, а у событий без дат вырастает до 45, видна тенденция к угасанию «церковных» и даже точных датировок, которая еще сильнее проявляется в других летописях XIV-XV вв.
Статья посвящена дате выходных записей древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV вв. как одному из основных компонентов формуляра текстов этого вида. Выходные записи являются одной из форм внелетописной фиксации сведений исторического характера, а именно состоявшихся книгописных работ по заказу физического лица / группы лиц (как частных, так и носителей светской или церковной власти), а также духовной корпорации. Иногда эти сведения дополняются упоминанием социально значимых событий, что сближает выходные записи древнерусских рукописных книг XI-XIV вв. со статьями летописей. В статье анализируется структура даты выходных записей, а также употребление эквивалентной дате формулы «при Х, при Х1», служащей способом дополнительной характеристики времени написания кодекса. Структура даты выходных записей соотносится с компонентами конечного протокола княжеских актов Руси. Это необходимо для выяснения связи древнерусских скрипториев с протоканцелярской практикой светских и церковных властей.
Яркой чертой древнерусских летописей являются «пустые годы». Если «пустые годы» следуют один за другим, они могут писаться как в столбик, так и в строчку; начиная с XV в. встречается третий вариант: «пустых годов» вообще не писать. В статье ставится вопрос о том, какой способ оформления «пустых годов» является древнейшим. Автором были просмотрены 43 летописных рукописи XIII-XVIII вв. (в подлиннике либо в цифровых копиях). В большинстве кодексов, если «пустые годы» вообще есть, они пишутся в строчку. Написание в столбик присутствует только в четырех памятниках. В трех из них это, по-видимому, решение писца непосредственно дошедшей до нас рукописи, однако в четвертом - Синодальном списке Новгородской I летописи - написание в столбик восходит, вероятно, к глубокой древности. Автор приходит к выводу, что в «Повести временных лет» 1110-х годов «пустые годы» были написаны в строчку, однако в более раннем киево-печерском летописании XI в., возможно, они писались в столбик, что подтверждается параллелями из ранней анналистики других стран.
В статье рассматриваются свидетельства существования практики счета лет и погодных исторических записей у древних майя. Хотя ни одной погодной летописи классического периода до нас не дошло, ряд монументальных надписей содержат свидетельства существования такого жанра. Начиная с V в. известны юбилейные стелы, содержащие упоминания окончания годовых периодов (3-й, 10-й и 13-й годы). В позднеклассическое время к ним добавляется регулярная запись окончания пятилетий (naah hotuun, «первое пятилетие» и wi? hotuun, «последнее пятилетие»). Единственная дошедшая до нас надпись с почти полной последовательностью лет (Стела J из Копана), очевидно, зафиксировала не конкретные события, имевшие место в эти годы, а «архетипические», возможно с мифологическим подтекстом. К середине VIII в. мы наблюдаем Северном Юкатане формирование так называемой юкатанской даты, которая состоит из циклической даты (в пределах 52-летнего цикла) и указания на год двадцатилетия. На протяжении второй половины VIII - первой половины IX в. юкатанская дата становится всё более популярной и постепенно вытесняет другие календарные системы. В Чич’ен-Ице она становится одной из характерных черт практики историописания. Начиная с конца 860-х гг. погодные записи включают сообщения не только о календарных ритуалах, но и о событиях прочего характера. От постклассического периода (X-XVI вв.) до нас дошли только перечни лет пророчески-предсказательного характера, зафиксированные в Парижском кодексе и на росписях из Санта-Рита-Коросаль, где изображены боги-покровители лет.
Мусульманские «локальные истории» XII-XIV вв. неплохо изучены, однако особенности датировки событий в составе такого рода сочинений до сих пор не были предметом специального исследования. При этом жанровое разнообразие «локальных историй» во многом обуславливает как различный подход авторов к использованию даты в качестве обязательного маркера того или иного исторического события, так и непосредственно сам характер датировки. Последнее проявляет себя в том, что разные авторы могут использовать неодинаковые календарные системы, а то и вовсе не приводить указаний на месяц и точное число события. Иногда даже в рамках одного и того же сочинения могут встречаться различные варианты календарной системы, поскольку текст дополнялся более поздними продолжателями. Определенные сложности может вызывать и то, что в некоторых случаях авторы на протяжении всего повествования о том или ином правителе не упоминают никаких дат и лишь в конце соответствующего рассказа могут указать на общее количество лет его правления. Все эти особенности «локальных историй» не отменяют их значимости самих этих сочинений как для развития мусульманской историографии, так и для реконструкции событий истории регионов Ирана.
В статье рассмотрены ранние делопроизводственные практики городского суда Реймса, зафиксированные в древнейшем из городских картуляриев - составленном в XIV в. кодексе, названном позднее «Красной книгой». «Красная книга» начинается с фрагментов Евангелий и включает городскую хартию 1182 г. - «Вильгельмину», ордонансы, записи обычаев, соглашения, списки должностных лиц, разнообразные финансовые документы. Почти две трети ее объема занимают решения городского суда XIIIXIV вв., целенаправленно отобранные для этого кодекса, однако их систематизация или унификация формата записей при этом не проводились. Датируемые по годам краткие записи о рассмотренных эшевенами в XIII - начале XIV в. делах и вынесенных ими решениях содержат разнообразные сведения о повседневной жизни горожан и представляют большой интерес для истории Реймса и истории городского управления. На примере булочников автор отдельно останавливается на отсутствии дел, связанных с повторными нарушениями профессиональных предписаний.
История биргиттинского монашеского ордена во многом связана с Вадстенским монастырем, главной обителью биргиттинцев, и отражена в Вадстенском диарии - хронике указанного монастыря о событиях конца XIV - начала XVI в.. сохранившейся в пергаменном подлиннике. Источник многофункционален: он служит поминальной книгой и монастырской хроникой, содержит сведения по церковной и политической истории. Диарий включает и вставные тексты, различные по жанру. Способы обозначения даты разнообразны; в их использовании прослеживаются определенные тенденции. Вадстенский диарий содержит и данные о физическом и духовном возрасте членов братства и мирян - паломников и благодетелей. Проведенное мной исследование Вадстенского диария подтверждает перспективность сравнительного изучения нарративных памятников Северной и Восточной Европы. Из всех шведских анналов и хроник Средневековья Вадстенский диарий наиболее близок древнерусским летописям; сходство проявляется как в тематике записей, так и в их характере.
«История новых времен в Англии» («Historia Novorum in Anglia») Эадмера Кентерберийского послужила одним из источников «Хроники из Хроник» («Chronicon ex chronicis»), приписываемой Иоанну Вустерскому, однако, насколько известно, их сопоставление до сих пор не привлекало внимания исследователей. Статья посвящена сравнительному изучению тематических, композиционных и стилистических особенностей погодных записей Иоанна Вустерского и тех эпизодов «Истории» Эадмера, к которым они восходят. В статье выделяются различия в отношении к изложению материала в обоих памятниках: в труде Эадмера, посвященном истории английской церкви и церковной политике и основанном на его собственных наблюдениях, впечатлениях и опыте, можно заметить пристрастность и субъективность в повествовании о событиях. Напротив, хроника Иоанна Вустерского, опиравшегося, помимо сочинения Эадмера, на многочисленные источники, такие как труды Беды Достопочтенного, Мариана Скотта, Ордерика Виталия, составителей Англо-Саксонской хроники, стремится к объективности в повествовании об исторических событиях разных народов, объединенных во всемирную историю. Если метод организации повествования Иоанна Вустерского следует определить как анналистический, то подход Эадмера к его материалу можно назвать биографическим, т. к. его повествование сосредоточено на изложении событий, связанных с архиепископом Кентерберийским Ансельмом. Главное внимание в статье уделяется определению функций, в которых Иоанн Вустерский использует «Историю» Эадмера, не имеющую формы календарных анналов, однако трансформирующуюся в «Хронике из Хроник» в погодные записи, как в основном тексте (за 1102-1121 гг.), так и в маргиналиях (до середины 1101 г.). Анализ анналов Иоанна Вустерского, основанных на тексте Эадмера, позволяет не только понять причины выбора источника, но и определить те цели, которые ставили перед собой их авторы, реконструировать процесс составления текстов, роль использованных в них документов и соотношение с другими памятниками, в частности, АнглоСаксонской хроникой и «Церковной историей» Ордерика Виталия.
В статье речь пойдет о том, что представляет собой такой специфический тип текстов, как «пасхальные анналы», - давно и хорошо известный в науке, но при ближайшем рассмотрении совсем не простой для понимания. Когда и почему они появились и какую функцию выполняли; что о природе пасхальных анналов может сказать их кодикологическое окружение; как эволюционировал подобный тип погодных записей? Можно ли определить их жанровую принадлежность? Пасхальные анналы являют собой историографическую конструкцию, созданную в XIX в. и затем произвольно интегрированную в эволюционистскую схему развития средневековой анналистики. Однако рукописная традиция показывает, что до Х в. записи на полях пасхальных таблиц имели отношение не к историописанию, но прежде всего к компутистике. Они были инструментом формирования и визуализации представлений о линейном характере христианского времени. После 1000 г. они постепенно меняют свою природу, дистанцируются от компутистики и становятся разновидностью хронистики в строгом смысле слова. На это указывает не только содержание записей, но также типы используемых для этого пасхальных таблиц и существенно иное кодикологическое окружение таких текстов.
В позднеримской и ранневизантийской письменной традиции бытовали разнообразные календари и системы летосчисления, что порождало проблему обозначения года и согласования стилей. Употребление датировок по разным календарным системам осложнялось тем обстоятельством, что в разных календарях годы начинались в разное время. В статье предложен обзор основных способов летосчисления, применявшихся в позднеримский и ранневизантийский период, а также приведены примеры сочетания различных методов датировки в трудах греческих писателей-хронографов ранневизантийского периода (до IX в.). Эволюция наиболее типичных систем обозначения года в поздней Римской и ранней Византийской империи может быть описана следующим образом: а) до IV в.: консулат, в Египте - годы правления императоров; б) IV -начало VI в.: консулат и индиктион; в) с 537 г. до VIII в.: годы царствования императора и соправителей, консулат, индиктион; г) VIII-X вв.: индиктион, годы царствования; д) с XI в.: индиктион, год от Сотворения мира (по византийской эре).
В начале IV в. Римская империя находилась под контролем сразу нескольких императоров, претендовавших на единоличную власть. Победителями в борьбе оказались Константин Великий и Лициний, с 313 г. установившие совместную власть над империей. Их взаимоотношения имели характер затяжного конфликта, в рамках которого можно выделить как горячие фазы боевых действий, так и период шаткого мира. В соответствии с существующей в Римском государстве еще с республиканских времен традицией императоры каждый год объявляли двоих консулов. Консульство, бывшее наивысшей магистратурой в Римской республике, в императорское время было почетной должностью, присваивавшийся или членам императорских семейств, или иным лицам по выбору императоров. Важнейшая функция консулов в эпоху Поздней империи - обозначение года по формуле «год консульства таких-то». Данная формулировка использовалась римлянами как в официальных документах, так и в исторических повествованиях. Объявляя консулов, Константин и Лициний не всегда соглашались друг с другом. Списки консулов по годам (фасты) периода их совместного правления позволяют глубже проследить взаимоотношения между двумя конфликтующими императорами.
Гелланик Лесбосский был одним из виднейших греческих историков V в. до н. э. Его главный вклад в развитие историописания связан с тщательной разработкой им в трудах последнего периода жизни проблем хронологии, которой предшествующие авторы не уделяли достаточного внимания. Вопреки распространенному ранее мнению, ныне установлено отсутствие в архаической Греции (в отличие от Рима) исторических хроник в которых запись событий велась бы по годам. У первых греческих историков (Гекатея, Ферекида, даже Геродота) мы такой записи тоже не находим: они пользовались генеалогической хронологией. Соответственно, в их трудах почти невозможно найти сколько-нибудь точных датировок и много хронологической путаницы. Гелланик же в трактате «Жрицы Геры, что в Аргосе» (420-е гг. до н. э.) разработал систему эпонимной хронологии и начал для уточнения датировок проводить синхронизацию магистратов, служивших эпонимами в различных государствах греческого мира - афинских архонтов, спартанских эфоров, а в качестве «камертона» для такой синхронизации ему служил список верховных жриц аргосского святилища Геры. Фукидид критиковал Гелланика за недостаток акрибии, однако пользовался его «Жрицами».
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ИВИ РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- Ленинский проспект, дом 32А, г. Москва, 119334
- Юр. адрес
- Ленинский проспект, дом 32А, г. Москва, 119334
- ФИО
- Михаил Аркадьевич ЛИПКИН (Директор)
- E-mail адрес
- dir@igh.ru
- Контактный телефон
- +7 (849) 5938134
- Сайт
- https:/igh.ru