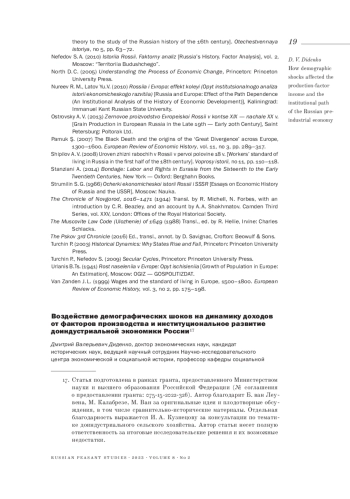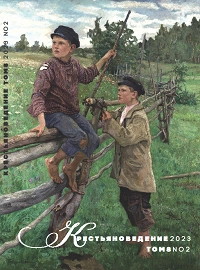В данной статье автор исследует примеры нескольких шоков, связанных с потерями населения в России в XIV-XVII веков, их последствий для рынков и факторов производства, сравнивая с аналогичными примерами из истории Англии. Цель статьи - проверить теоретические закономерности и проследить формирование институционального пути развития средневековой России путем систематизации эмпирических свидетельств. Основные из них заимствованы из предшествующей исследовательской литературы. Используются также две русские летописи и нормативный акт (Уложение 1649 г.). Проведенный автором обзор нарративных и количественных свидетельств вносит вклад в историческую компаративистику экономических систем, в литературу об «эффекте колеи» в парадигме институциональной экономической истории. Кроме того, материал статьи способствует объяснению причин «малой дивергенции» между (северо-)западной и (юго-)восточной Европой с XV по XIX век, а впоследствии и корней «великой дивергенции» между Европой и Азией в XVIII - XX веках. Автор считает, что эмпирические данные советской марксистской экономической историографии сочетаются с недавними выводами неомальтузианской структурнодемографической теории и результатами количественных исследований школы клиодинамики. Сразу вслед за потрясениями в России заработная плата выросла, как и в Англии. Динамика доплаты за квалификацию свидетельствует о предпосылках формирования элементов человеческого капитала в недрах доиндустриальных обществ. Однако, в отличие от Англии, крепостное право, один из наиболее экстрактивных институтов, поддерживалось в России как ответ землевладельческой элиты на давление неблагоприятного для нее сочетания доходов от факторов производства. Это привело к повышению отношения земельной ренты к заработной плате и преимущественному использованию в сельском хозяйстве землесберегающих, а не трудосберегающих технологий.
The author considers several Russian cases of population-loss shocks in the 14th - 17th centuries and their consequences for the production-factor markets, comparing them with those in England. The article aims at verifying theoretical ideas and at tracing the institutional path of mediaeval Russia’s development based on the empirical data represented in the research works, two chronicles and the legal act (Code of 1649). The author’s review of narratives and statistical data contributes to the historical comparative studies of economic systems and of the path dependence in the institutional economic history. The article contributes to the explanation of the causes of the ‘Little Divergence’ between (North)western and (South)eastern Europe in the 15th - 19th centuries, and of the roots of the ‘Great Divergence’ between Europe and Asia in the 18th - 20th centuries. The author argues that the empirical evidence from the Soviet Marxist economic historiography is consistent with the recent findings of the neo-Malthusian structural-demographic theory supported by the Cliodynamics school of quantitative history. After the shocks, wages rose in Russia just as in England. The dynamics of the skill premia highlights the background for formation of human capital ingredients in the bowels of the pre-industrial societies. Contrary to England, serfdom, one of the most extractive institutions, remained in Russia as a response of landlords to the pressure from the disadvantageous combination of production-factor incomes, which led to an increase in land rent to wage ratio and to reliance on land-saving (versus labour-saving) technologies in agriculture.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- История
The covid-19 pandemic with its global economic disturbances revived interest in external shocks and their effects in the past2. Shocks (wars, epidemics, climate change) inevitably change the balance of production factors, affect economic agents’ choices, and might also trigger subsequent patterns of economic growth and institutional development. The most obvious example of this type of shocks is the plague pandemic in the 14th century (Black Death).
Список литературы
1. Allen R. (2001) The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War, Explorations in Economic History, vol. 38, no 4, pp. 411-447. EDN: GVNIAL
2. Andreeva T. V. (2019) Na dalnyh podstupah k Velikoi reforme: Krestijansky vopros v Rossii v tsarstvovanie Nikolaya I [Distant Approaches to the Great Reform: The peasant question in Russia in the reign of Nicholas I], Saint Petersburg: Istoricheskaia illiustratsiia. EDN: EANTVG
3. Baten J., Hippe R. (2018) Geography, land inequality and regional numeracy in Europe in historical perspective. Journal of Economic Growth, vol. 23, no 1, pp. 79-109. EDN: DCJXEL
4. Borsch S. J. (2005) The Black Death in Egypt and England: A Comparative Study, Austin: University of Texas.
5. Broadberry S., Campbell B., Klein A., Overton M., van Leeuwen B. (2015) British Economic Growth 1270-1870, Cambridge: Cambridge University Press.
6. Buggle J., Nafziger S. (2021) The slow road from serfdom: Labor coercion and long-run development in the former Russian Empire, Review of Economics and Statistics, vol. 103, no 1, рр. 1-17.
7. Campbell B. (2009) Factor markets in England before the Black Death, Continuity and Change, vol. 24, no 1, рр.79-106.
8. Clark G. (2007) A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, Princeton: Princeton University Press.
9. Clark G. (2015) Markets before economic growth: The grain market of medieval England. Cliometrica, vol. 9, no 3, pp. 265-287. EDN: UKCIWM
10. Clark G. (2016) Microbes and markets: Was the Black Death an economic revolution? Journal of Demographic Economics, vol. 82, no 2, рр. 139-165.
11. De Pleijt A. M., van Zanden J. L. (2016) Accounting for the “Little Divergence”: What drove economic growth in pre-industrial Europe, 1300-1800? European Review of Economic History, vol. 20, no 4, pp. 387-409.
12. Domar E. D. (1989) Capitalism, Socialism, and Serfdom, New York: Cambridge University Press.
13. Eklof B. (1986) Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture, and Popular Pedagogy, 1861-1914, Berkeley: University of California Press.
14. Fochesato M. (2018) Origins of Europe’s north-south divide: Population changes, real wages and the ‘little divergence’ in early modern Europe, Explorations in Economic History, vol. 70, pp. 91-131.
15. Fogel R. W., Engerman S. L. (1974) Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery, New York: W. W. Norton and Company.
16. Galor O., Moav O., Vollrath D. (2009) Land inequality and the emergence of human capital promoting institutions. Review of Economic Studies, vol. 76, no 1, рр. 143-179.
17. Goldstone J. A. (1991) Revolution and Rebellion in the Early Modern World, Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
18. Grinin L., Korotayev A. (2015) Great Divergence and Great Convergence: A Global Perspective, Heidelberg: Springer Cham. EDN: VAFRGF
19. Hellie R. (1999) The Economy and Material Culture of Russia, 1600-1725, Chicago: University of Chicago Press.
20. Jedwab R., Johnson N. D., Koyama M. (2022) The economic impact of the Black Death, Journal of Economic Literature, vol. 60, no1, рр. 132-178. EDN: BHYFRT
21. Kabuzan V. M. (1971) Izmeneniia v razmeshchenii naseleniia Rossii v XVIII - pervoi polovine XIX v. (Po materialam revizii) [Changes in the Distribution of the Russian Population in the 18th - First Half of the 19th Century (Based on the Population Count Records)], Moscow: Nauka.
22. Kahan A. (1968) Natural calamities and their effect upon the food supply in Russia (an introduction to a catalogue), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Bd. 16, H. 3, s. 353-377.
23. Klyuchevsky V. O. (1960 [1906]). A History of Russia. Transl. by C. J. Hogarth, in 5 vols., New York: Russell and Russell.
24. Langer L. N. (1975) The Black Death in Russia: Its effects upon urban labor.Russian History, vol. 2, no 1, pp. 53-67.
25. Leonard C. S. (2011) Agrarian Reform in Russia. The Road from Serfdom, Cambridge University Press.
26. Liashchenko P. N. (1956) Istoriia narodnogo khoziaistva SSSR [History of the Soviet National Economy], vol. 1, Moscow: IE RAN.
27. Malanima P. (2012) The economic consequences of the Black Death. Ed. by E. L. Cascio. L’impatto della ‘peste antonina’. Bari: Edipuglia, pp. 311-328.
28. Markevich A., Zhuravskaya E. (2018) Economic effects of the abolition of serfdom: Evidence from the Russian Empire. American Economic Review, vol. 108, no 4-5, pp. 1074-1117. EDN: XKOHFV
29. McNeill W. H. (1976) Plagues and Peoples, New York: Anchor Books, Doubleday.
30. Milov L. V. (1998) Velikorussky pakhar i osobennosti rossiiskogo istoricheskogo protsessa [The Great Russia Plowman and Peculiarities of the Russian History], Moscow: ROSSPEN.
31. Mironov B. N. (2012) The Standard of Living and Revolutions in Russia, 1700-1917. Ed. by G. L. Freeze, Abingdon: Routledge. EDN: KFUPOE
32. Mironov B. N. (2018) Rossiiskaya imperiya: ot traditsii k modernu [Russian Empire: From Tradition to Modernity], vol. 2, Saint Petersburg: Dmitry Bulanin. EDN: YQSZFO
33. Moon D. (2001) The Abolition of Serfdom in Russia, 1762-1907. New York: Longman.
34. Natkhov T., Vasilenok N. (2021) Skilled immigrants and technology adoption: Evidence from the German settlements in the Russian empire. Explorations in Economic History, vol. 81.
35. Nefedov S. A. (2002) O demograficheskih tsiklah v istorii srednevekovoi Rossii [On the demographic cycles in the history of medieval Russia], Klio, no 3, рр. 193-203.
36. Nefedov S. A. (2003) O vozmozhnosti primeneniya strukturno-demograficheskoi teorii pri izuchenii istorii Rossii XVI veka [On the application of the demographic-structural theory to the study of the Russian history of the 16th century]. Otechestvennaya istoriya, no 5, рр. 63-72. EDN: OPKLMR
37. Nefedov S. A. (2010) Istoriia Rossii. Faktorny analiz [Russia’s History. Factor Analysis], vol. 2, Moscow: “Territoriia Budushchego”.
38. North D. C. (2005) Understanding the Process of Economic Change, Princeton: Princeton University Press.
39. Nureev R. M., Latov Yu.V. (2010) Rossiia i Evropa: effekt koleyi (Opyt institutsionalnogo analiza istorii ekonomicheskogo razvitiia) [Russia and Europe: Effect of the Path Dependence (An Institutional Analysis of the History of Economic Development)], Kaliningrad: Immanuel Kant Russian State University.
40. Ostrovsky A. V. (2013) Zernovoe proizvodstvo Evropeiskoi Rossii v kontse XIX - nachale XX v. [Grain Production in European Russia in the Late 19th - Early 20th Century], Saint Petersburg: Poltorak Ltd.
41. Pamuk Ş. (2007) The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’ across Europe, 1300-1600. European Review of Economic History, vol. 11, no 3, рр. 289-317.
42. Shipilov A. V. (2008) Uroven zhizni rabochih v Rossii v pervoi polovine 18 v. [Workers’ standard of living in Russia in the first half of the 18th century]. Voprosy istorii, no 11, рр. 110-118.
43. Stanziani A. (2014) Bondage: Labor and Rights in Eurasia from the Sixteenth to the Early Twentieth Centuries, New York - Oxford: Berghahn Books. EDN: UUIJNT
44. Strumilin S. G. (1966) Ocherki ekonomicheskoi istorii Rossii i SSSR [Essays on Economic History of Russia and the USSR], Moscow: Nauka.
45. The Chronicle of Novgorod, 1016-1471 (1914) Transl. by R. Michell, N. Forbes, with an introduction by C. R. Beazley, and an account by A. A. Shakhmatov. Camden Third Series, vol. XXV, London: Offices of the Royal Historical Society.
46. The Muscovite Law Code (Ulozhenie) of 1649 (1988) Transl., ed. by R. Hellie, Irvine: Charles Schlacks.
47. The Pskov 3rd Chronicle (2016) Ed., transl., annot. by D. Savignac, Crofton: Beowulf & Sons.
48. Turchin P. (2003) Historical Dynamics: Why States Rise and Fall, Princeton: Princeton University Press.
49. Turchin P., Nefedov S. (2009) Secular Cycles, Princeton: Princeton University Press. EDN: PUJPJV
50. Urlanis B.Ts. (1941) Rost naseleniia v Evrope: Opyt ischisleniia [Growth of Population in Europe: An Estimation], Moscow: OGIZ - GOSPOLITIZDAT.
51. Van Zanden J. L. (1999) Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. European Review of Economic History, vol. 3, no 2, рр. 175-198.
Выпуск
Другие статьи выпуска
21–23 апреля 2023 г. состоялась XXI международная конференция молодых ученых «Векторы» на базе ОАНО «МВШСЭН» («Шанинка»). Традиционно «Векторы» организуются усилиями студентов и выпускников «Шанинки» при поддержке администрации университета, в этом же году были привлечены исследователи из других партнерских образовательных институций: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Ариэльский университет (Израиль).
Как вовлечь усадьбы в современные социокультурные процессы? Какой отпечаток наложила усадебная культура на русскую жизнь вплоть до настоящего времени? Какова перспектива ее развития в XXI веке? Как усадьба может менять географическое, культурное, экономическое пространство вокруг себя? Для чего нужна и как возможна реституция в современной России, возможно ли в ней появление новой аристократии и как не повторять тех ошибок и духовных подмен, которые были в истории дореволюционных усадеб? Подобные вопросы обсуждали участники III научной конференции «Русская усадьба в XXI веке: исторический опыт и новые возможности», прошедшей 2‒3 июня 2023 года в подмосковном Культурно-просветительском центре «Преображение».
Рецензия на книгу: Узун В. Я., Шагайда Н. И., Гатаулина Е. А., Шишкина Е. А. (2022). Холдингизация агробизнеса России. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. - 344 с. ISBN 978-5-85006-446-4
Рецензия на книгу: Timm Schönfelder, Roter Fluss auf Schwarzer Erde. Der Kuban und der agromeliorative Komplex. Eine sowjetische Umwelt- und Technikgeschichte 1929-1991. (Geschichte der technischen Kultur, Bd. 14), Brill Schöningh: Paderborn, 2022, XI + 324 s.
В интервью профессора НИУ ВШЭ Н. Е. Покровского обсуждается его путь в науку, связанную с проблематикой сельско-городского развития. Отталкиваясь от собственного опыта изначально городского жителя, Покровский размышляет, как и почему горожане приходят в деревню со своими проектами и планами проживания и обустройства окружающей действительности. В интервью рассматриваются жизненные траектории разных социальных страт горожан в их сельских поисках. При этом даются сущностные характеристики динамики сельских изменений последних десятилетий, в том числе на основе личного опыта Покровского, связанного с многолетней работой Угорского проекта сельского развития в Костромской области. Как социолог-американист Покровский обращается в своих размышлениях и к американским корням сельского образа жизни, связанным с идеями Т. Джефферсона и Г. Торо, а также своим личным впечатлениям от работы и проживания в сельских регионах США. Большое внимание в интервью уделяется вопросам пространственного переосмысления сельско-городского развития, связанных, с одной стороны, с критикой современного образа жизни в крупных городах, а с другой - с новыми направлениями не только экономических и технологических, но также культурно-исторических и рекреационно-экологических практик в сельской местности. В заключение ставится вопрос о возможности нового картографирования сельских пространств с целью комплексной оценки развития локальных территорий.
«Конец эры комбината» в Байкальске сформировал ситуацию перераспределения возможностей и желаний, отъезд из города для одних, поиск в городе способов заработка для других. В поле неформальных экономических практик продолжает присутствовать сдача жилья в аренду туристам, сбор и продажа дикорастущих ягод и трав, вылов и продажа рыбы, выращивание и продажа клубники. В поле клубничных практик появились новые «игроки», применяются новые садоводческие инструменты, продукция, способы приготовления ягоды, расширяется информационное, экспертное поле. К 2021 году Байкальск становится городом квалифицированных специалистов в области выращивания клубники. В данной статье мы предлагаем вниманию читателей исследование трансформации деятельности по выращиванию клубники. Кто сейчас занимается клубникой в городе? Какие появляются новые смыслы в этой деятельности? Почему клубничная тематика осталась на уровне визуальных «меток», достаточно формальных для городской идентичности, притом что в каждой семье клубника занимает свое стабильное место?
Появившись в России относительно недавно, концепция кластерного подхода в настоящее время заняла важное место в стратегии социально-экономического развития страны и ее регионов. Ряд проектов по созданию кластеров осуществляется в инициативном порядке. Государство играет особую роль в развитии кластеров, формируя их институциональную среду, организовывая взаимодействие участников, обеспечивая инфраструктурную и финансовую поддержку. Это касается в первую очередь агропромышленных кластеров, значение которых возросло в условиях стимулирования импортозамещения после пандемии коронавируса и активного введения антироссийских санкций. В данной статье обзорного типа рассматриваются понятие агропромышленного кластера, меры государственной поддержки агропромышленных кластеров в России, требования к агропромышленным кластерам в целях получения господдержки. Авторы приходят к выводу, что наиболее важными проблемами в области исследования являются длительные сроки согласования решений на различных уровнях власти; проблемы координации деятельности государственных органов и общественных объединений предпринимателей; недостаточные сроки для отчета об использовании предоставленных государственных средств; неясность процедур процесса отбора кластеров для финансирования, неверный выбор кластерного объекта для финансирования; слепое копирование зарубежной практики без учета специфических особенностей экономики России и ее аграрного сектора. По результатам исследования были предложены направления решения выявленных проблем в области государственной поддержки агропромышленных кластеров.
Сельская местность России неоднородна, причем за последние 30 лет ее неоднородность лишь нарастает. При этом образ сельской местности в сознании представителей власти и общества в целом далек от реальности, что определяет как неверную оценку ее состояния и перспектив, так и серьезные недочеты в программах развития сельской местности. В то же время научное сообщество в большей степени исследует сельскую местность Нечерноземья и этнических республик, а изучение степных русских регионов осуществляется по остаточному принципу. В рамках данной статьи авторы анализируют факторы территориальной дифференциации постсоветских трансформаций сельской местности одной из наиболее однородных областей Черноземной зоны - Тамбовской - на уровне муниципальных районов и сельских советов. Основой типологии районов является набор статистических показателей, отражающих изменение интенсивности освоения территории за последние 30 лет. Основой типологии поселений стали материалы 53 интервью и наблюдения в рамках экспедиции в Мичуринский, Гавриловский и Уваровский районы летом 2022 года. В результате удалось выяснить, что природный фактор и на региональном, и на локальном уровне продолжает влиять на интенсивность трансформаций, причем действует он как прямо (интенсификация растениеводства за 30 лет выше на юге), так и опосредованно через сложившуюся систему расселения и транспортно-географическое положение. Критически важным является влияние экономико-географического положения (близость к городам), и институциональный фактор (привлечение крупных инвесторов на нераспределенную землю).
В статье рассматривается состояние здоровья и заболеваемость крестьян Тамбовской губернии в 1920-е годы. Источниками послужили неопубликованные ранее документы отдела здравоохранения исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Тамбовской губернии. Сделан акцент на изучении крестьян поколения «революционного перелома», представители которого родились на рубеже XIX-XX веков, в основном - в 1890-е годы. Рассмотрено влияние недостаточного питания и голода 1924-1925 годов на здоровье сельских жителей. Показаны негативные последствия употребления в пищу различных суррогатов. Установлено, что голод в наибольшей степени затронул беднейшие слои крестьянства, основная часть которых принадлежала к поколению «революционного перелома». Автор выделяет ряд факторов, влиявших на здоровье крестьян: состояние медицинского обслуживания, качество воды, жилища и другие. Среди заболеваний особое внимание уделено сифилису и малярии, как наиболее распространенным в деревне. Сделан вывод о неудовлетворительном состоянии здоровья большинства крестьян поколения «революционного перелома» в 1920-е годы. Установлено, что хроническое недофинансирование системы здравоохранения не позволяло качественно оказывать медицинскую помощь сельскому населению.
В статье предложен анализ локального исторического сюжета периода военного коммунизма в России. Ее цель - продемонстрировать на конкретно-историческом материале значимость учета широкого спектра факторов при анализе событий Гражданской войны. Показаны возможности применения локального исследования для построения значительного обобщения, указано на опасности экстраполяции. При изучении Гражданской войны культурно-исторические особенности тех или иных краев часто не замечались и не учитывались, хотя и проявились в новой революционной жизни. Предложенный сюжет связан с распространенным явлением указанного периода - массовым дезертирством и уклонением от службы в Красной армии крестьянского населения. Источником послужила служебная переписка Войск внутренней службы Советской России. События эпохи военного коммунизма наложились на бытие культурно-исторического микрорегиона с богатой историей - староверческих Гуслиц. В представленном описании присутствуют по меньшей мере три информационных пласта. Во-первых, это история, характерная для времен военного коммунизма; во-вторых, яркая иллюстрация социальной жизни русской деревни кануна и периода Революции; в-третьих, описание пореволюционной судьбы населения специфического края - с выраженным самосознанием и сложной историей. Сделан вывод, что на протяжении Гражданской войны социальные взаимоотношения по горизонтали и по вертикали складывались как под воздействием факторов, вызванных собственно внутренним противостоянием, так и культурно-исторических особенностей того или иного края. Таким образом, исследовательское внимание должно сосредотачиваться на подобных особенностях для более надежного воссоздания как картины Гражданской войны, так и социальной истории периода военного коммунизма.
Объектом изучения являются сельские кабаки - питейные заведения России второй половины XIX века. Кабаки рассматриваются как специфическая форма крестьянских публичных собраний, обладавших чертами клубов. Этот феномен сельской жизни анализируется на основе нарративных и законодательных источников 1860-1890-х годов. Исследование ограничено территориальными рамками северо-западных и центральных аграрных губерний. К концу XIX века в России заметно возросло количество добровольных объединений, среди которых большой популярностью пользовались клубы. До недавнего времени клубы рассматривались исключительно как социально-культурное явление, характерное для общественной жизни городов и городской повседневности. В конце XIX века наблюдалось усложнение социальных функций клубов, этих мест проведения досуга городских жителей. В последнее время наметилась тенденция именовать и питейные заведения второй половины XIX века в сельской местности не только клубами, но и ростками гражданского общества. В настоящей статье показано, что кабаки, являясь публичным пространством крестьянской жизни, имели признаки городских клубов, но их функции в этом качестве ограничивались исключительно сферой досуга с включением отдельных элементов деловой и информационной коммуникации. Традиционная дихотомия крестьянской жизни - в семье и на миру - получила дополнительные смыслы не только за счет расширения крестьянского взаимодействия, но и за счет более широкого функционала кабака, чем просто питейного заведения. Вместе с тем кабак как феномен сельской жизни был олицетворением социальной аномалии в форме пьянства и одновременно вбирал в себя некоторые изменения в традиционном укладе крестьянской жизни, что являлось отражением растущих связей между деревней и городом, большей открытости крестьянского мира.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- РАНХиГС
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- Юр. адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- ФИО
- Комиссаров Алексей Геннадиевич (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (499) 9569832