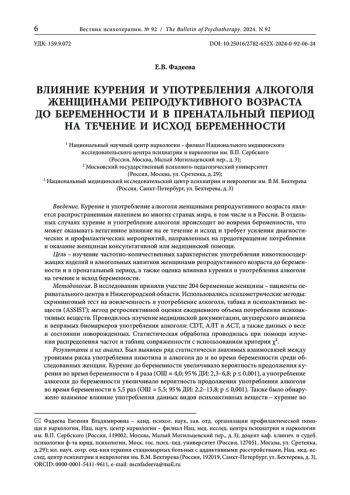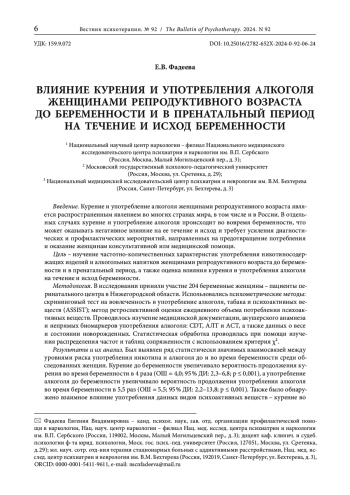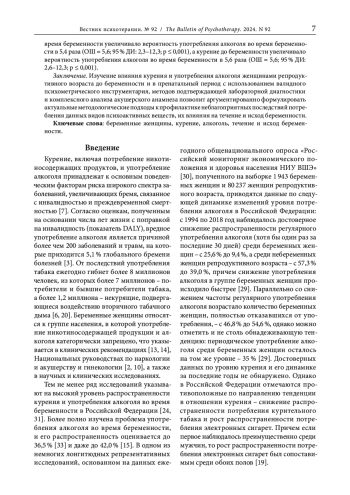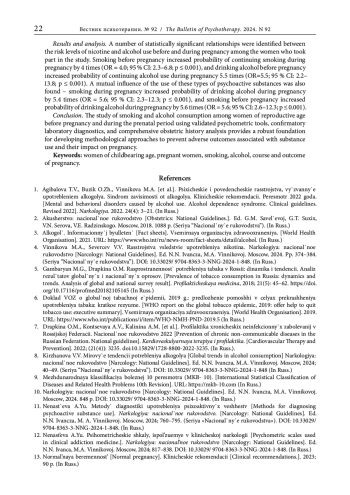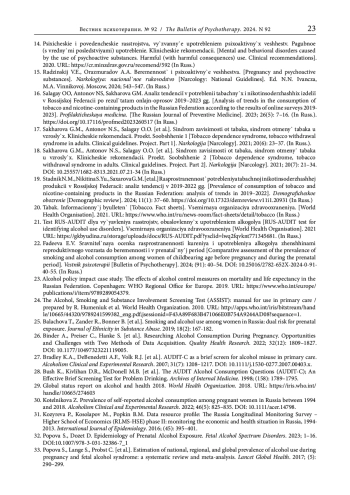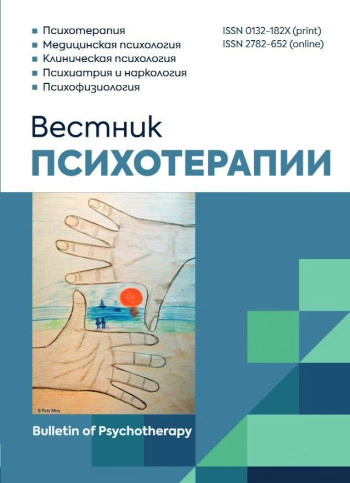Введение. Курение и употребление алкоголя женщинами репродуктивного возраста является распространенным явлением во многих странах мира, в том числе и в России. В отдельных случаях курение и употребление алкоголя происходит во вовремя беременности, что может оказывать негативное влияние на ее течение и исход и требует усиления диагностических и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение потребления и оказание женщинам консультативной или медицинской помощи. Цель - изучение частотно-количественных характеристик употребления никотиносодержащих изделий и алкогольных напитков женщинами репродуктивного возраста до беременности и в пренатальный период, а также оценка влияния курения и употребления алкоголя на течение и исход беременности. Методология. В исследовании приняли участие 204 беременные женщины - пациенты перинатального центра в Нижегородской области. Использовались психометрические методы: скрининговый тест на вовлеченность в употребление алкоголя, табака и психоактивных веществ (ASSIST); метод ретроспективной оценки ежедневного объема потребления психоактивных веществ. Проводилось изучение медицинской документации, акушерского анамнеза и непрямых биомаркеров употребления алкоголя: CDT, АЛТ и АСТ, а также данных о весе и состоянии новорожденных. Статистическая обработка проводилась при помощи изучения распределения частот и таблиц сопряженности с использованием критерия х2. Результаты и их анализ. Был выявлен ряд статистически значимых взаимосвязей между уровнями риска употребления никотина и алкоголя до и во время беременности среди обследованных женщин. Курение до беременности увеличивало вероятность продолжения курения во время беременности в 4 раза (ОШ = 4,0; 95 % ДИ: 2,3-6,8; p < 0,001), а употребление алкоголя до беременности увеличивало вероятность продолжения употребления алкоголя во время беременности в 5,5 раз (ОШ = 5,5; 95 % ДИ: 2,2-13,8; p < 0,001). Также было обнаружено взаимное влияние употребления данных видов психоактивных веществ - курение во время беременности увеличивало вероятность употребления алкоголя во время беременности в 5,4 раза (ОШ = 5,6; 95 % ДИ: 2,3-12,3; p < 0,001), а курение до беременности увеличивало вероятность употребления алкоголя во время беременности в 5,6 раза (ОШ = 5,6; 95 % ДИ: 2,6-12,3; p < 0,001).
Заключение. Изучение влияния курения и употребления алкоголя женщинами репродуктивного возраста до беременности и в пренатальный период с использованием валидного психометрического инструментария, методов подтверждающей лабораторной диагностики и комплексного анализа акушерского анамнеза позволит аргументированно формулировать актуальные методологические подходы к профилактике неблагоприятных последствий потребления данных видов психоактивных веществ, их влияния на течение и исход беременности.
Идентификаторы и классификаторы
Курение, включая потребление никотиносодержащих продуктов, и употребление алкоголя принадлежат к основным поведенческим факторам риска широкого спектра заболеваний, увеличивающих бремя, связанное с инвалидностью и преждевременной смертностью [7]. Согласно оценкам, полученным на основании числа лет жизни с поправкой на инвалидность (показатель DALY), вредное употребление алкоголя является причиной более чем 200 заболеваний и травм, на которые приходится 5,1% глобального бремени болезней [3]. От последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек, из которых более 7 миллионов – потребители и бывшие потребители табака, а более 1,2 миллиона – некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма [6, 20]. Беременные женщины относятся к группе населения, в которой употребление никотиносодержащей продукции и алкоголя категорически запрещено, что указывается в клинических рекомендациях [13, 14], Национальных руководствах по наркологии и акушерству и гинекологии [2, 10], а также в научных и клинических исследованиях.
Список литературы
1. Агибалова Т.В., Бузик О.Ж., Винникова М.А. [и др.]. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости от алкоголя. Клинические рекомендации. Пересмотр 2022 года // Наркология. 2022. Т. 21. № 4. С. 3-21. EDN: DXFOWU
2. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 1088 с. (Серия “Национальные руководства”).
3. Алкоголь. Информационный бюллетень ВОЗ. 2021. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/alcohol (дата обращения: 07.11.2024).
4. Винникова М.А., Северцев В.В. Расстройства вследствие употребления никотина. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. С. 374-384. (Серия “Национальные руководства”). 10.33029/ 9704-8363-3-NNG-2024-1-848. DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848 EDN: YKKIWC
5. Гамбарян М.Г., Драпкина О.М. Распространенность потребления табака в России: динамика и тенденции. Анализ результатов глобальных и национальных опросов // Профилактическая медицина. 2018. Т. 21. № 5. С. 45-62. DOI: 10.17116/profmed20182105145 EDN: YPHTYD
6. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: предложение помощи в целях прекращения употребления табака: краткое резюме. Всемирная организация здравоохранения. 2019. URL: https://www.who.int/ru/publications/i/item/WHO-NMH-PND-2019.5 (дата обращения: 07.11.2024).
7. Драпкина О.М., Концевая А.В., Калинина А.М. [и др.]. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022 // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. № 21 (4). DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3235 EDN: DNBVAT
8. Киржанова В.В. Мировые тенденции потребления алкоголя. Наркология: национальное руководство / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. С. 40-49. (Серия “Национальные руководства”). 10.33029/ 9704-8363-3-NNG-2024-1-848. DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848
9. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). URL: https://mkb-10.com (дата обращения: 07.11.2024).
10. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 848 с. (Серия “Национальные руководства”). DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848
11. Ненастьева А.Ю. Методы диагностики употребления психоактивных веществ. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. С. 760-795. (Серия “Национальные руководства”). 10.33029/ 9704-8363-3-NNG-2024-1-848. DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848 EDN: DZRJEN
12. Ненастьева А.Ю. Психометрические шкалы, используемые в клинической наркологии. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. С. 817-838. (Серия “Национальные руководства”). 10.33029/ 9704-8363-3-NNG-2024-1-848. DOI: 10.33029/9704-8363-3-NNG-2024-1-848 EDN: GBVSFQ
13. Нормальная беременность. Клинические рекомендации. Разработано: Российское общество акушеров-гинекологов. Год утверждения: 2023. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/288_2 (дата обращения: 07.11.2024).
14. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление. Клинические рекомендации. Разработано: Ассоциация наркологов России (Профессиональное сообщество врачей психиатров-наркологов). Год утверждения: 2020. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/592 (дата обращения: 07.11.2024).
15. Радзинский В.Е., Оразмурадов А.А. Беременность и психоактивные вещества. Наркология: национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. С. 543-547.
16. Салагай О.О., Антонов Н.С, Сахарова Г.М. Анализ тенденций в потреблении табачных и никотинсодержащих изделий в Российской Федерации по результатам онлайн-опросов 2019-2023 гг. // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 5. С. 7-16. DOI: 10.17116/profmed2023260517 EDN: CEJDKE
17. Сахарова Г.М., Антонов Н.С., Салагай О.О. [и др.]. Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых. Клинические рекомендации. Проект. Сообщение 1 // Наркология. 2021. Т. 20. № 6. С. 23-37. DOI: 10.25557/1682-8313.2021.06.23-37 EDN: AFZXAI
18. Сахарова Г.М., Антонов Н.С., Салагай О.О. [и др.]. Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых. Клинические рекомендации. Проект. Сообщение 2 // Наркология. 2021. Т. 20. № 7. С. 21-34. DOI: 10.25557/1682-8313.2021.07.21-34 EDN: SWZOAP
19. Стадник Н.М., Никитина С.Ю., Сахарова Г.М. [и др.]. Распространенность потребления табачной и никотинсодержащей продукции в Российской Федерации: анализ тенденций в 2019-2022 гг. // Демографическое обозрение. 2024. Т. 11. № 1. С. 37-60. DOI: 10.17323/demreview.v11i1.20931 EDN: AUAHNF
20. Табак. Информационный бюллетень ВОЗ. 2021. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tobacco (дата обращения: 07.11.2024).
21. Тест RUS-AUDIT для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя. Всемирная организация здравоохранения, 2021 URL: https://gkbyudina.ru/storage/uploads/docs/RUS-AUDIT.pdf?ysclid=lwq2fqvknt771345681 (дата обращения: 07.11.2024).
22. Фадеева Е.В. Сравнительная оценка распространенности курения и употребления алкоголя женщинами репродуктивного возраста до беременности и в пренатальный период // Вестник психотерапии. 2024. № 91. С. 40-54. DOI: 10.25016/2782-652X-2024-0-91-40-55 EDN: NKSWOQ
23. Alcohol Policy Impact Case Study. The Effects of Alcohol Control Measures on Mortality and Life Expectancy in the Russian Federation. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019. URL: https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289054379 (дата обращения: 07.11.2024).
24. The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Manual for Use in Primary Care / prepared by R. Humeniuk et al. World Health Organization, 2010. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44320/9789241599382_eng.pdf;jsessionid=F43A89F683B471066E0B754A9244AD08?sequence=1 (дата обращения: 07.11.2024).
25. Balachova T., Zander R., Bonner B. [et al.]. Smoking and Alcohol Use Among Women in Russia: Dual Risk for Prenatal Exposure // Journal of Ethnicity in Substance Abuse. 2019. Vol. 18 (2). Pp. 167-182. EDN: KAVYAM
26. Binder A., Preiser C., Hanke S. [et al.]. Researching Alcohol Consumption During Pregnancy. Opportunities and Challenges with Two Methods of Data Acquisition // Qual. Health Res. 2022. Vol. 32 (12). Pp. 1809-1827. DOI: 10.1177/10497323221119005 EDN: HDPEQI
27. Bradley K.A., DeBenedetti A.F., Volk R.J. [et al.]. AUDIT-C as a Brief Screen for Alcohol Misuse in Primary Care // Alcohol Clin. Exp. Res. 2007. Vol. 31 (7). Pp. 1208-1217. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2007.00403.x
28. Bush K., Kivlihan D.R., McDonell M.B. [et al.] The AUDIT Alcohol Consumption Questions (AUDIT-C); An Effective Brief Screening Test for Problem Drinking // Arch.Intern. Med. 1998. Vol. 158 (16). Pp. 1789-1795.
29. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. World Health Organization, 2018. URL: https://iris.who.int/handle/10665/274603 (дата обращения: 07.11.2024).
30. Kotelnikova Z. Prevalence of Self-Reported Alcohol Consumption Among Pregnant Women in Russia Between 1994 and 2018 // Alcoholism Clinical and Experimental Research. 2022. Vol. 46. No. 5. Pp. 825-835. 10.1111/ acer.14798. DOI: 10.1111/acer.14798 EDN: TLMSJK
31. Kozyreva P, Kosolapov M., Popkin B.M. Data Resource Profile: The Russia Longitudinal Monitoring Survey -Higher School of Economics (RLMS-HSE) Phase II: Monitoring the Economic and Health Situation in Russia, 1994-2013 // International Journal of Epidemiology. 2016. Vol. 45. Iss. 2. Pp. 395-401. EDN: WUZDHH
32. Popova S., Dozet D. Epidemiology of Prenatal Alcohol Exposure // Fetal Alcohol Spectrum Disorders. 2023. Pp. 1-16. DOI: 10.1007/978-3-031-32386-7_1
33. Popova S., Lange S., Probst C. [et al.]. Estimation of National, Regional, and Global Prevalence of Alcohol Use During Pregnancy and Fetal Alcohol Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis // Lancet Global Health. 2017. Vol. 5 (3). Pp. 290-299.
34. Saxov K.R., Strandberg-Larsen K. [et al.]. Maternal Alcohol Consumption and the Risk of Miscarriage in the First and Second Trimesters: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2023. Vol. 102. No. 7. Рр. 821-832. DOI: 10.1111/aogs.14566 EDN: OFTSBQ
35. Sobell L.C., Sobell M.B. Timeline Follow-Back: A Technique for Assessing Self-Reported Alcohol Consumption // Measuring Alcohol Consumption: Psychosocial and Biological Methods. 1992. Гр. 41-72.
36. Xu H., Cui H., Huang Y., Xu X. Alcohol Consumption and The Risk of Miscarriage: A Meta-Analysis of Observational Studies // Reseach Square. URL: https://www.researchsquare.com/article/rs-3744430/v1.pdf?c=1702594868000 (дата обращения: 07.11.2024). DOI: 10.21203/rs.3.rs-3744430/v1
Выпуск
Другие статьи выпуска
Актуальность и цель. Несмотря на то, что в настоящее время проводится немало научных исследований качества жизни (КЖ) пациентов различных нозологических групп, сведения о разработке и становлении концепции КЖ в медицинской психологии практически отсутствуют. Для лучшего понимания разных концепций КЖ, которые будут учитываться при разработке программ оказания психологической помощи пациентам с соматическими заболеваниями, необходимо изучать становление и развитие концепций КЖ. В связи с этим целью исследования является изучение развития концепции КЖ в психологии и медицине от Античности до наших дней. Материал и методы. Проведен аналитический обзор научной литературы, посвященной проблеме КЖ. Для поиска релевантной научной литературы использовались ресурсы: eLIBRARY. RU (преимущественно статьи журналов ВАК Минобрнауки РФ), RusMed, PubMed, Springer, Google Scholar. Осуществлен комплексный анализ аспектов развития и становления концепции КЖ в периоды Античности, Средневековья, Возрождения и Нового времени, в том числе через философские представления, связанные с медициной и психологией. Основные результаты. В период Античности формировались представления о достижении счастья и благополучия: считалось, что через стремление к самосовершенствованию и осознанному выбору ценностей, гармонию души и тела достигается хороший уровень здоровья и КЖ. В периоды Средневековья и Возрождения христианство оказало на концепцию КЖ значительное влияние, подчеркивая важность духовного спасения и заботы о теле, а гуманизм привнес новые взгляды на физическое и эмоциональное благополучие, демонстрируя, что забота о здоровье является важной частью жизни человека, и это умонастроение повлияло на различные сферы человеческого существования. В XIX и начале XX века теория Дарвина оказала влияние на ряд наук, в том числе и на психологию и медицину, и привела к существенному изменению подходов в науках о человеке, а санитарное движение было одним из ключевых факторов, которое повлияло на превентивную медицину и на систему здравоохранения и которое сегодня отражается в концепциях КЖ в медицине психологии. Во второй половине XX века начали проводиться системные исследования КЖ, медицина стала уделять внимание не только физическому здоровью, но и психологическому благополучию. При изучении КЖ стали учитывается факторы, которые влияют на чувство счастья и удовлетворенности, и сформировался выраженный интерес к психическому здоровью человека.
Заключение. При рассмотрении концепции КЖ в медицине и психологии стало ясно, что изучение КЖ не ограничиваются только оценкой симптомов и ограничений, вызванных заболеванием и процессом лечения. Предполагается индивидуальный подход к каждому пациенту с учетом всех аспектов существования человека, от которых зависит его здоровье и которые необходимо учитывать при оказании психологической помощи пациентам с соматическими заболеваниями в процессе лечения, реабилитации и профилактики заболевания.
Актуальность. История клинической (медицинской) психологии, несмотря на свою значимость, остается достаточно слабо разработанной областью науки. За рубежом издано менее 10 полноценных монографий, в России же существует только один учебник по этой дисциплине. В основном история медицинской психологии рассредоточена по отдельным статьям, главам учебников, диссертациям. В этих условиях представляется необходимым создание целостного нарратива, могущего всесторонне отразить развитие данной дисциплины. В согласии с принципом историзма это необходимо делать начиная с зарождения клинической психологии, т. е. с конца XIX века. Цель - выявление особенностей исторического развития российской медицинской психологии в дореволюционный период. Методология. Для достижения поставленной цели были использованы сравнительноисторический и библиографический методы; источниковую базу составили историографическая литература и наиболее значимые публикации по теме исследования с конца XIX века по 1917 год. Результаты и их анализ. В ходе исследования было установлено, что отечественная медицинская психология возникла в русле последнего из трех направлений психологических исследований (философское, эмпирическое и экспериментальное), что происходило как в условиях научной борьбы между этими тремя течениями, так и в более широком контексте идейно-политического противостояния в России. Показано, что она была создана отечественными психиатрами (В. М. Бехтеревым, С. С. Корсаковым, В. Ф. Чижом и др.) на стыке медицины и психологии на основе экспериментального метода (в отличие от доминировавшего в академической психологии того времени метода интроспекции) и носила выраженный прикладной характер. Отмечается, что в ходе своего развития в указанный временной промежуток отечественная медицинская психология характеризовалась как внедрением зарубежных методик в экспериментальные исследования, так и созданием отечественных подходов; предпринимались попытки по унификации методик и приемов изучения психики больных и здоровых лиц; был заложен методологический фундамент медицинской психологии, определены основные принципы построения исследований такого рода, накоплен значительный эмпирический материал.
Заключение. Несмотря на достигнутые результаты, развитие медицинской психологии в дореволюционной России тормозилось отсутствием психологической теории, могущей объяснить полученные эмпирическим путем данные; фактически до середины ХХ века эта наука, во всяком случае в нашей стране, оставалась наукой описательной, а не объяснительной.
Введение. Число вооруженных конфликтов в мире не уменьшается. У возрастающего числа комбатантов и мирного населения, напрямую или опосредованно вовлеченного в боевые действия, возникает проблема экспресс-диагностики проявлений боевого стресса и боевых стрессовых расстройств. Цель - установить корреляционные зависимости между субшкалами военного варианта миссисипской шкалы ПТСР и скрининговой методики PC-PTSD-5. Материал и методы. В мае-июне 2024 г. при помощи военного варианта миссисипской шкалы, методики PC-PTSD-5 и неструктурированного интервью провели обследование 163 комбатантов, предварительно получив у них добровольное информированное согласие. Установочное поведение оценивали при помощи 10 адаптированных вопросов на искренность из опросника «Стандартизированный метод исследования личности». В связи с непараметрическим распределением некоторых субшкал опросников в тексте приведены средние данные, медианы с верхним и нижним квартилем (Me [Q1; Q3]). Сходство (различие) показателей оценивали при помощи рангового критерия Краскела-Уоллиса, корреляционные зависимости - ранговых корреляций Спирмена. Результаты и их анализ. Средние результаты шкалы на искренность составили 7 [6; 8] баллов, что свидетельствовало о достаточно хорошей достоверности результатов обследования. При частотном анализе качественных показателей нарушения психической адаптации по миссисипской шкале ПТСР наблюдались у 8,6 % комбатантов, ПТСР - у 3,7 %. Корреляционная зависимость общего показателя оригинального военного варианта миссисипской шкалы ПТСР и методики PC-PTSD-5 - умеренная, положительная и статистически значимая (г = 0,588; p < 0,001). Положительные статистически достоверные корреляционные зависимости низкой и умеренной силы были найдены по всем проанализированным субшкалам (вторжение, избегание, физиологическая возбудимость, вина и суицидальность).
Заключение. При дефиците времени и большом потоке комбатантов результатам обследования по методике PC-PTSD-5 можно доверять. Эти результаты, наряду с другими, могут быть использованы при определении нуждаемости комбатантов в психологической коррекции и психотерапии.
Актуальность. Высокие требования к стрессоустойчивости сотрудников силовых структур и социальный характер их деятельности обуславливают необходимость выявления связанных с социальным стрессом факторов нарушения профессиональной деятельности. Цель - выявление различий спектральных и временных показателей сердечного ритма при предъявлении ситуаций межличностного взаимодействия у сотрудников силовых структур с разным уровнем адаптации к стрессу. Методология. Исследование направлено на определение особенностей вариабельности сердечного ритма при предъявлении ситуаций межличностного взаимодействия у 249 сотрудников силовых структур с различным уровнем адаптации к стрессу. На первом этапе при предъявлении стимулов, моделирующих чрезвычайные ситуации, выделены три группы с разным уровнем адаптации к стрессу; на втором этапе в выделенных группах оценивались физиологические параметры во время предъявления ситуаций межличностного взаимодействия, включавших нейтральную, радостную и четыре конфликтные ситуации: единичные и длительные с унижением достоинства или физической угрозой. Результаты и их анализ. Выявлено, что у сотрудников силовых структур с низким уровнем адаптации к стрессу предъявление ситуаций межличностного взаимодействия приводит к высокому напряжению в работе сердечно-сосудистой системы, низкому компенсаторному увеличению активности сегментарного и центрального отделов вегетативной нервной системы; сопровождается нарушением привыкания к стрессогенному содержанию ситуаций и более высокой чувствительностью к стрессогенному воздействию длительных конфликтных ситуаций, чем единичных.
Заключение. Результаты расширяют представления о факторах, лежащих в основе нарушений поведения в конфликтных ситуациях сотрудников силовых структур с разным уровнем адаптации к стрессу, и могут быть использованы при оценке личностно-профессиональных компетенций.
Актуальность исследования. Получение высшего медицинского образования оказывает значительное влияние на жизнь будущих врачей и, по их словам, является одним из наиболее сложных этапов в жизни. Из-за недостатка свободного времени у студентов могут возникать различные физиологические и психологические проблемы, такие как ухудшение работы иммунной системы, хроническая усталость, различные когнитивные нарушения, а также тревога и депрессия [5, 9]. В настоящее время существуют достаточно исследований, посвященных конкретным стрессорам и способам снижения их воздействия на организм человека [12]. Mohammad A. Aloufi et al. в своей работе пришли к выводу, что наилучшим методом, направленным на устранение стресса, тревоги и депрессии являются мероприятия по улучшению навыков повышения концентрации внимания и совладания с собой [9]. Часть студентов подвержена феномену анозогнозии, который заключается в отрицании, игнорировании или недооценке пациентом своего заболевания. В этом случае возможные проблемы выявляются с помощью психологических тестов. Цель работы: выявить и сравнить актуальные стрессовые факторы у студентов медицинского вуза на разных этапах обучения.
Материалы и методы. Анализировали отечественные и зарубежные статьи за 20162023 гг., используя следующие научные электронные библиотеки: Cyberleninka, PubMed; использовали авторский анонимный опросник, батарею тестов: стресс-тест В. Ю. Щербатых, тест функциональности поведенческой стратегии, госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), шкалу депрессии Бека. Результаты и их анализ. Исследование показало, что наиболее актуальным стрессом у 84,73 % студентов 1-го курса и 79,78 % студентов 6-го курса является учебная нагрузка, а на 3-м курсе доля таких студентов составляет 91,37 %; обнаружены статистически значимые различия (р = 0,008). Вредные привычки отмечались у 61,45 % студентов 1-го курса, 65,1 % студентов 3-го курса и 69,15 % студентов 6-го курса; статистически достоверных различий среди студентов разных курсов не выявлено (р > 0,05). По данным стресс-теста Щербатых на 3-м курсе статистически достоверно меньше обучающихся, у которых отсутствует симптомы стресса (р = 0,0108), а среди студентов 6-го курса статистически достоверно чаще встречаются лица, находящиеся в состоянии сильного стресса (р = 0,039). По данным теста поведенческой стратегии у студентов 1-го (35,92 %), 3-го (34,21 %) и 6-го (28,9 %) курсов доминирующей поведенческой стратегией стал оптимизм во всех ситуациях, включая неопределенные. По данным теста HADS на 1-м, 3-м и 6-м курсах по показателям субклинически и клинически выраженной тревоги статистически достоверных различий не обнаружено (p > 0,05). По данным теста Бека явно выраженная депрессивная симптоматика в меньшей степени проявляется у студентов 3-го курса (p = 0,0101).
Актуальность. Симуляционное обучение - новый подход в медицинском образовании, который позволяет тренировать необходимые навыки в безопасной среде. Однако использование симуляционных технологий предъявляет повышенные требования к адаптации студентов и вызывает психологические проблемы.
Цель. Исследование посвящено изучению особенностей восприятия симуляционного обучения студентами медицинских университетов на разных курсах, а также факторов, влияющих на адаптацию обучающихся. Методология. В исследовании с использованием метода фокусных групп участвовали 173 студента. Результаты и их анализ. Адаптация студентов медицинских университетов к обучению с высокотехнологичными тренажерами зависит от ситуационного, межличностного, организационного и индивидуально-психологического факторов, которые варьируются в разные годы обучения. Наибольшее влияние оказывает ситуационный фактор, связанный с восприятием симуляционных ситуаций как нереалистичных. Индивидуально-психологический фактор наиболее значим на 2-м курсе и минимально - на 6-м. Организационный фактор усиливается на 4-6-м курсах, а межличностный фактор, включающий помощь преподавателей и поддержку коллег, не показал различий у студентов разных лет обучения.
Заключение. Полученные данные расширяют представление об особенностях симуляционного обучения и адаптации будущих врачей. Более детальное исследование может помочь в разработке индивидуально ориентированных подходов к симуляционному обучению и программ психологического сопровождения, включая коммуникативный тренинг.
Актуальность. В связи с высоким мировым темпом урбанизации, повышением рабочей нагрузки на людей, уменьшением времени отдыха, увеличением частоты заболеваний, связанных со стрессом, все чаще диагностируются такие психогенно обусловленные нарушения, как расстройства пищевого поведения и синдром эмоционального выгорания. Данные синдромы более характерны для молодого работающего населения, в частности студентов медицинских образовательных учреждений, которые ежедневно сталкиваются с высокими психоэмоциональными нагрузками. Цель - провести психодиагностическую оценку выраженности признаков расстройств пищевого поведения и синдрома эмоционального выгорания у студентов медицинского университета. Методология. Проведено обсервационное описательное одномоментное исследование с участием 100 студентов ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера» (г. Пермь), средний возраст - 21,96 ± 2,63 года. Студентов разделили на две группы. Первую группу составили 50 обучающихся 2-го курса (юноши и девушки), вторую - 50 обучающихся 5-го курса обоих полов. Внутри группы были поделены на две подгруппы с равным количеством юношей и девушек (n = 25). Группы практически не различались по социальным и клиническим характеристикам. Изучение расстройств пищевого поведения и синдрома эмоционального выгорания проводилось посредством клинических опросников: шкала оценки пищевого поведения, ШОПП (русскоязычная адаптация: Ильчик О. А., Сивуха С. В., Скугаревский О. А., Суихи С., 2011), опросник профессионального выгорания Маслач, ПВ (русскоязычная адаптация: Водопьянова Н. Е.,. Старченкова Е. С., 2001). Вычислены абсолютные показатели в виде среднего арифметического значения (M) и среднеквадратичного отклонения (SD). Статистическая обработка проводилась с использованием программного StatSoft Statistica 12.6, использован непараметрический U-критерий Манна - Уитни в связи тем, что распределение данных отличается от нормального. Статистически значимыми различия считались при p < 0,05. Результаты и их анализ. Показатели психодиагностической оценки расстройств пищевого поведения у девушек 2-го и 5-го курсов достоверно выражены (4,27 ± 2,69 и 4,93 ± 2,67 соответственно, по шкале ШОПП - средняя выраженность). Однако различия между показателями статистически незначимы (р > 0,05). У юношей 2-го курса выявлено наличие расстройств пищевого поведения (4,24 ± 2,40, средняя выраженность по ШОПП), для 5-го курса они не характерны (3,85 ± 2,65, низкий уровень значений по ШОПП). При этом статистических различий между курсами также не замечено (p > 0,05). Следовательно, выраженность и прогрессирование расстройств пищевого поведения практически не зависят от курса обучения студентов-медиков. Синдром эмоционального выгорания, оцененный в исследовании по значению системного индекса синдрома перегорания (0 - не выражен, 1 - выражен максимально) по шкале ПВ, наиболее выражен у девушек 5-го курса (0,47 ± 0,12), по сравнению со студентками 2-го курса (0,37 ± 0,12), что подтверждается статистически (p < 0,01). У юношей обоих курсов данные показатели ниже, чем у девушек, и находятся практически на одном уровне (0,27 ± 0,09 у 2-го курса; 0,24 ± 0,10 у 5-го курса). Статистически разница показателей недостоверна (p > 0,05). Следовательно, синдром эмоционального выгорания более выражен у девушек, причем у студенток 5-го курса синдром прогрессировал.
Заключение. Расстройства пищевого поведения характерны для студентов обоих полов как младших, так и старших курсов медицинского университета, причем синдром стабильно средне выражен и не подвергается изменению с течением времени. Синдром эмоционального выгорания наиболее характерен для девушек, он явно прогрессирует к 5-му курсу. В группе 2 как у мужчин, так и у женщин преобладают значения, относящиеся к умеренному уровню личностной тревожности (4,5 (± 2,4)), в то время как уровень ситуативной тревожности оценивается как низкий (3,0 (± 2,2)). При этом отмечается статистически значимое (р < 0,05) превышение значений личностной и ситуативной тревожности у участников исследования в группе 1. Исследование наличия признаков невротических состояний у участников группы 1 продемонстрировало нахождение в зоне здоровья показателей астении (2,47 (± 0,8) баллов) и вегетативных нарушений (3,47 (± 1,1) баллов); в зоне неустойчивой психической адаптации находятся показатели тревоги (1,27 (± 0,9) баллов), невротической депрессии (0,34 (± 0,2) баллов), истерического реагирования (1,22 (± 0,9) баллов) и обсессивно-фобических нарушений (0,96 (± 0,2) баллов). При этом ни один из показателей не находится в зоне болезненного характера (табл. 1). У респондентов группы 2 все показатели находятся в зоне здоровья (табл. 2). Выявлено статистически значимое (р < 0,05) превышение значений показателей опросника в группе 2. При исследовании психогенных факторов нервной системы у участников исследования группы 1 отмечается умеренное повышение значений шкалы стресса и шкалы депрессии. При этом значения шкал тревожности и соматизации находятся в пределах нормы. У респондентов группы 2 все исследуемые показатели находятся в пределах нормы (табл. 3). При этом в группе 1 наблюдается статистически значимое (р < 0,01) превышение показателей уровней стресса, депрессии и тревожности, по сравнению со значениями показателей в группе 2. Статистически значимой разницы в показателях соматизации выявлено не было. При анализе взаимосвязи уровня ежедневной физической нагрузки участников исследования и показателей уровней их тревожности, вегетативных нарушений, стресса, депрессии, уровня соматизации, оцениваемой с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, выявлено наличие статистически значимых (р < 0,01) отрицательных корреляционных связей между уровнем физической нагрузки и уровнями ситуативной и личностной тре- вожности, стрессом, уровнем соматизации и вегетативными нарушениями, а также значимая (р < 0,05) отрицательная корреляционная связь уровня регулярной физической нагрузки и уровня депрессии (табл. 4). При увеличении регулярной физической активности снижаются уровни тревожности, стрессовой реакции, вегетативных нарушений, соматизации и депрессии. Заключение Выявленная статистически значимая (p < 0,01) отрицательная корреляция между уровнем физической нагрузки человека и уровнем ситуативной и личностной тревожности, стрессом, уровнем соматизации и вегетативными нарушениями, а также значимая (р < 0,05) отрицательная корреляционная связь уровня регулярной физической нагрузки и уровня депрессии показывает, что чем ниже у человека уровень физической активности, тем более вероятно повышение уровня тревожности, развитие стрессовой реакции, вегетативных нарушений, соматизации и депрессии. Данные закономерности актуальны для любых уровней регулярной физической нагрузки. При средней регулярной физической нагрузке (в пределах 7 500-10 000 шагов в день) отмечается отсутствие повышения исследуемых параметров до высоких значений либо до уровней болезненного состояния. Более высокий уровень личностной и ситуативной тревожности, стресса, депрессии, соматизации и вегетативных нарушений у молодых людей следует объяснять, вероятно, рядом социально-психологических факторов, свойственных данному периоду взросления и социализации. Отметим, что при этом описанные выше корреляционные связи между уровнем регулярной физической нагрузки и психологическим состоянием человека находятся вне зависимости от пола и возраста.
Актуальность. Неуклонное ухудшение психологического состояния человека в современном мире представляет собой очевидную проблему для специалистов различного профиля. Одним из факторов, определяющих психологическое состояние, называют уровень физической активности человека. Имеющиеся результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии регулярных занятий спортом на психологическую устойчивость человека. Однако при этом остается малоизученным вопрос, насколько любая - не только интенсивная, но и минимальная, при этом регулярная - физическая активность человека может оказывать влияние на его психологическое состояние Цель исследования - определить степень взаимовлияния регулярной физической активности человека и уровня его тревожно-депрессивного состояния.
Материалы и методы. Проведено исследование взаимовлияния уровня физической активности и уровней тревожности, стресса, депрессии, соматизации и вегетативных нарушений с участием 106 человек: мужчин и женщин в возрасте от 18 до 56 лет. Уровень физической активности участников исследования определялся путем снятия показаний с приложений, установленных у участников исследования на телефонах и фитнес-браслетах; подсчитывалось среднее количество пройденных шагов в день за последнюю неделю перед началом исследования. Психологическое состояние респондентов оценивалось с применением следующих методик: интегративного теста тревожности (ИТТ) (для выявления скрытой, маскированной тревоги и тревожности); четырехмерного опросника для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (Dutch Four-Dimensional Symptoms Questionnaire, 4DSQ) (для выявления психогенных факторов нервной системы - оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматоформных нарушений); клинического опросника невротических состояний (для выявления основных синдромов невротических состояний). Наличие взаимосвязи между показателями оценивалось с применением метода ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. В ходе исследования выявлена статистически значимая (р < 0,01) отрицательная корреляция между уровнем физической нагрузки человека и уровнем ситуативной и личностной тревожности, стрессом, уровнем соматизации и вегетативными нарушениями, а также значимая (р < 0,05) отрицательная корреляционная связь уровня регулярной физической нагрузки и уровня депрессии. Данная закономерность актуальна для любых уровней регулярной физической нагрузки, для лиц любого возраста и пола.
Заключение. Выявленная статистически значимая (р < 0,01) отрицательная корреляция между уровнем физической нагрузки человека и уровнем ситуативной и личностной тревожности, стрессом, уровнем соматизации и вегетативными нарушениями, а также значимая (р < 0,05) отрицательная корреляционная связь уровня регулярной физической нагрузки и уровня депрессии показывают, что чем ниже у человека уровень регулярной физической активности, тем более вероятно у него повышение уровня тревожности, развитие стрессовой реакции, вегетативных нарушений, соматизации и депрессии. Данная закономерность актуальна для любых уровней регулярной физической нагрузки. При средней регулярной физической нагрузке (в пределах 7 500-10 000 шагов в день) отмечается отсутствие повышения исследуемых параметров до высоких значений либо уровней болезненного состояния.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ВЦЭРМ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 194044, город Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 4/2 литер а, помещ. 1н
- Юр. адрес
- 194044, город Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 4/2 литер а, помещ. 1н
- ФИО
- Алексанин Сергей Сергеевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- medicine@nrcerm.ru
- Контактный телефон
- +8 (812) 3393939
- Сайт
- https://nrcerm.ru/