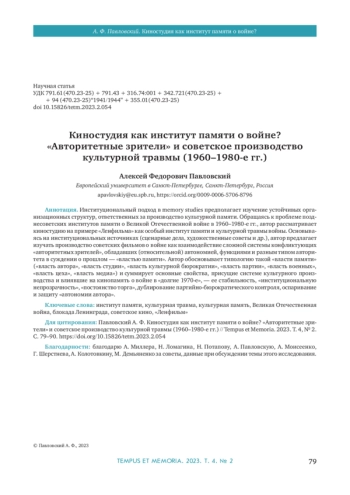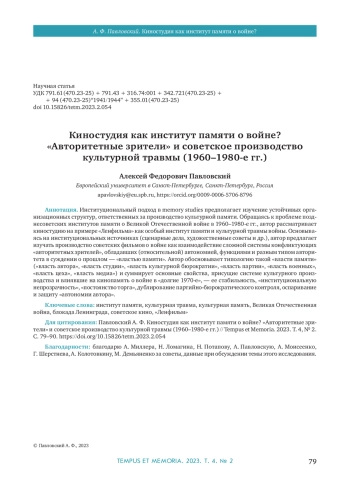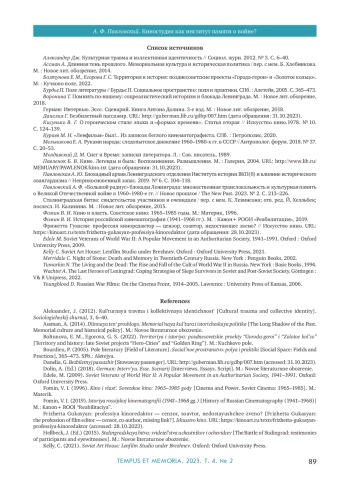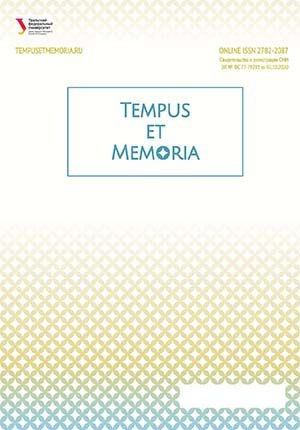Институциональный подход в memory studies предполагает изучение устойчивых организационных структур, ответственных за производство культурной памяти. Обращаясь к проблеме позднесоветских институтов памяти о Великой Отечественной войне в 1960-1980-е гг., автор рассматривает киностудию на примере «Ленфильма» как особый институт памяти и культурной травмы войны. Основываясь на институциональных источниках (сценарные дела, художественные советы и др.), автор предлагает изучать производство советских фильмов о войне как взаимодействие сложной системы конфликтующих «авторитетных зрителей», обладавших (относительной) автономией, функциями и разным типом авторитета в суждении о прошлом - «властью памяти». Автор обосновывает типологию такой «власти памяти» («власть автора», «власть студии», «власть культурной бюрократии», «власть партии», «власть военных», «власть цеха», «власть медиа») и суммирует основные свойства, присущие системе культурного производства и влиявшие на кинопамять о войне в «долгие 1970-е», - ее стабильность, «институциональную непрозрачность», «постоянство торга», дублирование партийно-бюрократического контроля, оспаривание и защиту «автономии автора».
Идентификаторы и классификаторы
- УДК
- 001. Наука в целом. Науковедение. Организация умственного труда
316.74. Институты культуры. Например: религия, наука, воспитание
342.721. Личная свобода. Habeas corpus. Неприкосновенность личности. Крепостная зависимость. Рабство. Самоуправное задержание
355.01. Война. социология войны. Философия войны. Милитаризм
791.43. Киноискусство. Кинофильмы Техника кино
791.61. Оформление ярмарок
94. Всеобщая история
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть советскую киностудию 1960–1980-х гг. как институт памяти о Великой Отечественной войне — конституирующем мифе-основании, который в «долгие семидесятые» становится фундаментом построения новой политической нации советских людей. Трудно переоценить, насколько сильно кинематограф этого времени повлиял на историческое воображение советских зрителей разных поколений о войне — от киноэпопей «Освобождение» Ю. Озерова, «Блокада» М. Ершова и «Они сражались за Родину» С. Бондарчука до фильмов «Иваново детство» А. Тарковского, «Восхождение» Л. Шепитько и «Белорусский вокзал» А. Смирнова [Youngblood, 142–185]. Еще труднее не заметить, насколько активно советские власти финансировали их создание.
Список литературы
1. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социол. журн. 2012. № 3. С. 6-40. EDN: PELCHZ
2. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое лит. обозрение, 2014.
3. Болтунова Е. М., Егорова Г. С. Территория и история: позднесоветские проекты “Города-герои” и “Золотое кольцо”. М.: Кучково поле, 2022.
4. Бурдье П. Поле литературы // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. С. 365-473.
5. Воронина Т. Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. М.: Новое лит. обозрение, 2018.
6. Герман: Интервью. Эссе. Сценарий. Книга Антона Долина. 3-е изд. М.: Новое лит. обозрение, 2018.
7. Данелия Г. Безбилетный пассажир. URL: http://guberman.lib.ru/gdbp/007.htm (дата обращения: 31.10.2023).
8. Кисунько В. Г. О героическом стиле эпохи и “формах времени”. Статья вторая // Искусство кино.1978. № 10. С. 124-139.
9. Кураев М. Н. “Ленфильм” был!.. Из записок беглого кинематографиста. СПб.: Петрополис, 2020.
10. Мельникова Е. А. Руками народа: следопытское движение 1960-1980-х гг. в СССР // Антрополог. форум. 2018. № 37. С. 20-53. EDN: URZNSF
11. Молдавский Д. М. Снег и Время: записки литератора. Л.: Сов. писатель, 1989.
12. Павленок Б. В. Кино. Легенды и быль: Воспоминания. Размышления. М.: Галерия, 2004. URL: http://www.lib.ru/MEMUARY/PAWLENOK/kino.txt (дата обращения: 31.10.2023).
13. Павловская А. Ю. Блокадный архив Ленинградского отделения Института истории ВКП(б) и влияние исторического авангардизма // Неприкосновенный запас. 2019. № 6. С. 104-118. EDN: YQUTTY
14. Павловский А. Ф. “Большой радиус” блокады Ленинграда: множественная транслокальность и культурная память о Великой Отечественной войне в 1960-1980-е гг. // Новое прошлое / The New Past. 2023. № 2. С. 213-226. EDN: FHFBGQ
15. Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев / пер. с нем. К. Левинсона; отв. ред. Й. Хелльбек; послесл. И. Калинина. М.: Новое лит. обозрение, 2015.
16. Фомин В. И. Кино и власть. Советское кино: 1965-1985 годы. М.: Материк, 1996.
17. Фомин В. И. История российской кинематографии (1941-1968 гг.). М.: Канон+ РООИ “Реабилитация”, 2019.
18. Фрижетта Гукасян: профессия киноредактор - цензор, соавтор, недостающее звено? // Искусство кино. URL: https://kinoart.ru/texts/frizhetta-gukasyan-professiya-kinoredaktor (дата обращения: 28.10.2023).
19. Edele M. Soviet Veterans of World War II: A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941-1991. Oxford: Oxford University Press, 2009. EDN: USBUYL
20. Kelly С. Soviet Art House: Lenfilm Studio under Brezhnev. Oxford: Oxford University Press, 2021.
21. Merridale С. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia. New York: Penguin Books, 2002.
22. Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. New York: Basic Books, 1994.
23. Wachter A. The Last Heroes of Leningrad: Coping Strategies of Siege Survivors in Soviet and Post-Soviet Society. Göttingen: V& R Unipress, 2022.
24. Youngblood D. Russian War Films: On the Cinema Front, 1914-2005. Lawrence: University Press of Kansas, 2006.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Классики направления memory studies Пьер Нора, Ян и Алейда Ассман справедливо отмечали, что в последней трети XX в. в странах евроатлантического региона история превратилась в язык обсуждения актуальных общественных проблем. Борьба за его однозначность, закрепление собственной (зачастую понимается как единственно верная) трактовки событий прошлого составляет важную часть современных информационных войн. Динамика военно-политического и экономического взаимодействия различных стран находит отражение в области символической политики, которая, в силу своей связи с коллективными представлениями и способности последних оказывать влияние на породившее их сообщество, не может рассматриваться лишь в качестве зависимой переменной.
В статье исследуется корпус интервью, собранных Д. А. Граниным и А. М. Адамовичем в процессе работы над «Блокадной книгой», одного из наиболее авторитетных текстов о блокаде Ленинграда. Автор анализирует рабочие материалы писателей и стенограммы интервью, чтобы реконструировать процесс собирания устных свидетельств о блокаде Ленинграда, продемонстрировать то, как процесс общения со свидетелями постепенно изменял первоначальный замысел книги. В статье предпринимается попытка поставить процесс интервьюирования в контекст документального поворота в советской культуре 1970-х гг. В тексте также анализируется внутренняя иерархия свидетельств и документов, возникшая в процессе работы над «Блокадной книгой».
В статье рассматриваются формирование проектов постконфликтного человека в культуре США после войны во Вьетнаме и связанный с ними процесс «индустриализации памяти». Цель статьи - критически рассмотреть роль СМИ, общественных и академических дискуссий, кинематографа и литературы в формировании постконфликтного института «индустрии памяти» в США с конца 1970-х гг. и показать, как происходит тривиализация травмы в культуре постконфликтного периода, что приводит к рождению целой индустрии вокруг коллективной памяти, абсорбирующей и замещающей персональный опыт участников конфликта. Кроме того, дается оценка продуктивного потенциала рассмотренных проектов человека для осмысления опыта насилия и построения постконфликтного общества.
Семейная память тесно связана с исторической памятью, они дополняют друг друга. Кроме того, у чеченцев семейная и историческая память увязаны с тайповой/родовой памятью, сохраняется необходимость знать имена минимум семи своих предков по отцовской линии, строго поддерживается и родство по материнской линии. Письменных источников в результате кризисных явлений сохранилось очень мало, чаще всего память сохранялась и транслировалась в виде устных преданий. В настоящее время наблюдается практика письменного оформления семейных/тайповых историй, возрождения горных сел, родовых башен. В наши дни новыми поколениями широко используются современные гаджеты и средства коммуникации. В семейной памяти чеченцев много общего с другими народами, но есть и свои особенности, связанные с широкой системой родства, проживанием значительной части населения в селах, утратой письменных источников и фотографий.
Целью исследования является анализ современной мемориальной культуры Чеченской Республики. Автор исходит из того, что прошлое о Чечне за пределами республики, как правило, ограничивается памятью о Кавказской войне (в связи с исторической фигурой имама Шамиля) и вооруженных действиях постсоветского периода 1994-1996 и 1999-2009 гг., которые нередко именуются как «чеченские войны» или «чеченские кампании». Новизна исследования заключается в изучении современной чеченской мемориальной культуры в контексте постконфликтного этапа становления северокавказской республики, о котором крайне мало междисциплинарных исследований. В статье определена выборка ключевых исторических событий, на которых конструируется чеченская мемориальная культура: 1) движение под руководством шейха Мансура; 2) Кавказская война; 3) революция 1917 г. и Гражданская война; 4) советская Чечня (Чечено-Ингушская АССР); 5) Великая Отечественная война/депортация 1944 г.; 6) «Чеченская революция» 1991 г., дудаевский режим, гражданская война в Чечне 1994 г., «первая чеченская война», межвоенный кризис, «вторая чеченская война», отмена режима контртеррористической операции (КТО) и развитие республики. Автор применяет к чеченской мемориальной культуре модель помятования А. Ассман «помнить, чтобы никогда не забывать», поскольку она предполагает сохранение прошлого и интеграцию памяти о событии в коллективную идентичность. При этом в статье выявляются недостатки данной модели и показывается поэтапная институционализация коммеморативной практики помятования жертв депортации в постконфликтный период развития республики.
В данной статье представлена попытка проблематизировать исследования иммигрантских сообществ внутри Европы на пересечении категорий «границы/пограничье» - «память» - «иммигрантские сообщества», проявив особую роль памяти в этой триаде. Для достижения поставленной цели в первой части статьи автор представит ряд подходов к исследованию пограничья в разных его измерениях с акцентом на «жестком» территориальном аспекте данного феномена. Затем внимание будет уделено «мягкому» пограничью и его чертам и далее будут охарактеризованы «иммигрантские сообщества» как «пограничье мягких границ». На основе концепции «активных границ» К. Мюллера и исследования иммигрантской молодежи в разных странах под руководством Дж. Берри будут проблематизированы возможные фокусы исследования памяти представителей иммигрантских сообществ на «пограничье мягких границ» в принимающих сообществах.
Предметом исследования в этой статье являются мнемонические практики, то есть способы актуализации прошлого в коллективной памяти современных (2010-2020) казаков. Для анализа были выбраны казачьи сообщества в социальных сетях, так как они являются частью публичной сферы и отличаются от печатных или официальных СМИ практически полным отсутствием цензуры и свободой дискуссий даже на темы, исключенные из официального публичного дискурса. С помощью контент-анализа и дискурс-анализа в методологии Э. Лакло и Ш. Муфф было установлено, что такими, наиболее проблемными темами для коллективной памяти возрожденного казачества являются геноцид казаков и коллаборационизм во время Великой Отечественной войны. В неоднородной казачьей среде сосуществуют два нарратива истории казачества - героический и виктимный. Зачастую обе версии казачьего прошлого воспроизводятся в репрезентациях одного актора в зависимости от обстоятельств, они инструментализируются для политических нужд текущего момента.
Статья посвящена изучению региональной политики памяти в Кабардино-Балкарии. В рамках концепта режима памяти было предложено рассмотреть модель использования памяти о депортации балкарского народа через конфигурацию мнемонических акторов и их стратегий. На основе метода исследования случая (case-study) было обнаружено, что в республике формируется раздробленный режим памяти. Это объясняется наличием антагонистической стратегии акторов в борьбе за доминирование нарратива в публичном и символическом пространстве. Местная элита использует память о травме для улучшения политического и экономического статуса группы. Отрицание важной для адыгского народа памяти о Канжальской битве является способом оспаривания доминирующего статуса кабардинцев, а также решения территориальных споров.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- УрФУ
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- Юр. адрес
- 620002, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
- ФИО
- Кокшаров Виктор Анатольевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@urfu.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3754507
- Сайт
- https://urfu.ru/ru